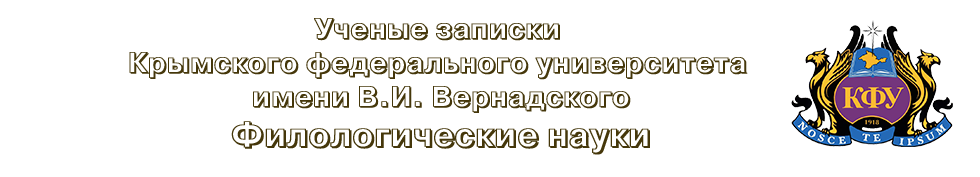THE CRISIS OF THE WORLD OF POWER COMMUNICATIONS IN THE ERA OF GLOBAL TRANSFORMATIONS
КРИЗИС МИРА «ВЛАСТИ КОММУНИКАЦИЙ» НА ФОНЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ[1]
JOURNAL: «Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philological sciences», Volume 11 (77), № 1, 2025
Publication text (PDF): Download
UDK: 070:316.77:316.422
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:
Evstafiev D. G., National Research University Higher School of Economics, RUDN University named after Patrice Lumumba, Moscow, Russian Federation
TYPE: Article
PAGES: from 3 to 14
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: information society, globalization, social transformations, socio-informational environment, digital integrated communications, neo-global world.
ABSTRACT (ENGLISH):
The ongoing period of transformations of the contemporary system of world economy and international relations due to their systemic nature put forward to the agenda the issues related to the role and effectiveness of the key instruments that were fundamental to the development of the globalization. One of the most important of such instruments was the globalized informational society based upon the technologies of integrated digitalized communications. That type of technologies gives the opportunity to maximize the potential of the information society as the global system of management and governance of the major political and economic processes in the real-time regime. As well as to provide for integrity of the major globalized trans-national systems. That phenomena of the period of the mature globalization became known as the «World of Power of Communications». The essence of the model of global management that relies upon the model of Power of Communications is to implement the management of globally important trends through the method of narrative cascading. That means that basic narratives of economic, political or social nature while passing through trans-national channels of communications of the Americano-centric information society are adopted to the local agenda while not losing the basic ideas. Under the contemporary conditions the phenomena of the World of Power of Communication are being eroded not only because of the systemic defects of the information society but rather because of dramatic changes of the political and socio-economic environment. That stimulates the disproportions in the development of the information society that under some conditions could lead to the disruption of its integrity and thus – to the drastic loss of the effectiveness of one of the most important of the systems of the global world that remained fully operational.
ВВЕДЕНИЕ
Настоящая статья – один из элементов исследования, осуществляемого автором на протяжении последних лет, целью которого является выявление диалектики в информационном обществе внутренних механизмов развития/саморазвития под воздействием технологических изменений и внешней социальной и социально-экономической среды. Исследование призвано показать меняющееся соотношение внутренних и внешних факторов развития информационного общества (далее – ИО). Гипотеза автора сводится к тому, что на данном этапе доминируют внешние – контекстные – факторы развития, что отражает перестройку архитектуры глобальной политики и экономики. Внешние факторы обострили все основные противоречия современного информационного общества, вытекающие из его изначальной двойственной природы.
Важнейший аспект, определяющий глубину кризиса современного информационного общества, является результатом неразрешенности главного его противоречия: будучи созданным в качестве сервисной системы для обеспечения политико-экономического управления крупнейших индустриальных экономик «объединенного Запада», на этапе «развитой глобализации» информационное общество превратилось в социально-политическую систему, ставшую системообразующим элементом архитектуры американоцентричной глобализации. Проблема не только в утяжелении базовых управленческих функций информационного общества. Проблема была в возникновении иллюзии управления социальными (социально-политическими и социально-экономическими) процессами вне пространства социального действия. Из этого естественным образом вырос концепт «власти коммуникаций». Развитие ИО по модели «власти коммуникаций», безусловно, отрицало изначальные подходы к ИО как сервисной системе «единого мира» [18], но и выходило за рамки понимания ИО как социально структурирующей системы [1], поскольку претендовало на универсальность и почти тотальность. Изучение информационного общества всегда представляло определенную методологическую сложность в силу сложносоставного характера предмета исследования [20], но на нынешнем этапе очевидны невозможность анализа и тем более прогноза процессов развития информационного общества в рамках традиционной методологии. Требуется то, что можно назвать «истинной междисциплинарностью». С этих позиций правомерна постановка исследовательских вопросов, выходящих за рамки данной статьи:
В какой мере сохраняется взаимоувязка современного информационного общества и глобализации в ее актуальной американоцентричной версии, ориентированной на обеспечение интересов финансово-спекулятивного капитала? Может ли актуальная версия информационного общества, структурно построенная вокруг цифровизированных и сетевизированных интегрированных коммуникаций, существовать в новой среде социальных отношений, рождаемой процессами трансформации глобального мира?
Кризис «ядра глобализации» и ослабление США одновременно выполняли функции «политико-экономической и цифровой метрополии», не только создавая основу цифровизированного и сетевизированного ИО, но и задавая стандарт его развития на среднесрочную перспективу, но и оказывая существенное влияние на потенциал ИО как основу глобализации. Наиболее очевидным проявлением этого кризиса являются реальное ослабление американского потенциала «мягкой силы» и переход к более жестким форматам влияния [23]. Но наиболее значимым, вероятно, является кризис той версии финансово-инвестиционного капитализма, основой которого было ИО. Системообразующий характер ИО для определяющих сфер развития современного постиндустриального капитализма вполне осознается западными исследователями [11]. А значит, осознается важность сохранения если не американоцентричности современного ИО, то, как минимум, его «глобальности».
Гипотеза заключается в том, что актуальный для нас кризис глобализации в том относительно остром виде, в котором он реализуется в настоящее время, является результатом синхронизированного с ним структурного кризиса глобализированного, а на деле – американоцентричного ИО. Этот кризис не позволяет уже в полной мере реализовывать «мягкую силу» и связанные с ней механизмы «гибридного» воздействия на политику и экономику.
Предлагаемый вывод заключается в том, что одна из важнейших основ управления глобальными и глобализирующими социально-политическими и социальными процессами, основанная на модели «власти коммуникаций» [9], находится в настоящее время в глубоком системном кризисе. При этом, в условиях недостатка ресурсов для поддержания целостности ИО, международная конкуренция за определение характера модели управления в перспективном мире становится одной из основ глобальной конкуренции.
Конкуренция за суверенизацию (степень, глубину и модели обеспечения суверенности) страновых и региональных сегментов глобализированного ИО становится важнейшим элементом конкуренции за влияние в неоглобальном мире.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ
Мир «власти коммуникаций»: структура и особенности практической реализации
Информационное общество остается сферой, в наибольшей степени обеспечивающей устойчивость глобализированных экономических систем. Базовое предположение, положенное в основу анализа, сводится к тому, что сохранение интегрированного характера глобального информационного общества обеспечивает сохранение основных элементом глобализации как таковой. Разрушение целостности информационного общества может привести к началу распада таких базовых систем глобализации как финансово-инвестиционная система, система стандартизированных приоритетов социокультурного развития и проч. Как результат мир стоит на пороге начала активных процессов регионализации развития и формирования относительно суверенных экономических систем, которые в своем итоговом воплощении могут привести к формированию «макрорегионов», пространственно и – на завершающем этапе – институционально интегрирующих национальные государства.
Наблюдаемые нами в современном мире тенденции ложатся в модель «кризис власти коммуникаций», когда технологии ИО рассматривались в качестве универсального средства управления социоинформационными процессами, замещавшими все другие форматы управления не только кратко- и среднесрочными проектами, но даже и долгосрочными тенденциями развития [21].
Главным фактором была управленческая универсальность современного ИО. Это позволяло распространить «власть коммуникаций» (Communication Power), управление через каскадируемые нарративы, на все сферы человеческого развития и социальной жизни, внедрить управление через информацию в повседневную жизнь человека, в его модель социальной реализации. Способность незримо привносить в целеполагание общества, государства и человека внеэкономические элементы, что было одним из важнейших элементов «власти коммуникаций», и составляло на практике основу новых подходов к развитию условного «капитализма», то есть постиндустриальных систем развитых государств мира с общественными системами, основанными на принципах постмодерна [5]. Вопрос был о способности сохранить управляемость и рациональность поведения в социально-экономических вопросах.
Власть коммуникаций была многослойна. Авторское понимание «слоев» власти коммуникаций, изложенное в таблице 1, не является исчерпывающим. Оно призвано продемонстрировать «объемность» феномена «власти коммуникаций», которая не была лишь фигурой речи, но реально рассматривалась в качестве реально действовавшей модели управления не только в экономике и политике высшего уровня, где принцип управления через каскадирование нарративов стал основанием для формирования комплексного целеполагания как на уровне «малых», так и на уровне «крупных» социальных групп.
Таблица 1. Структура мира «власти коммуникаций»
|
|
Сущность воздействия |
Характер процессов |
Социальная тенденция |
Примечание |
|
Личный круг общения |
Коренная перестройка характера личных коммуникаций |
Размывание приоритета «очности» в личных коммуникациях, гибридизация личных коммуникаций с явной тенденцией роста значимости удаленных / онлайн-коммуникаций |
Расширение круга постоянного общения, его глобализация
|
Власть коммуникаций приводила к включению человека в несвойственную, необусловленную его реальными потребностями «повестку» |
|
Корпоративная среда |
Виртуализация корпоративных коммуникаций на всех уровнях, включая и внутрикорпоративные коммуникаций |
Резкое замещение онлайн-коммуникациями классических форм корпоративного управления
|
Размывание границы между «рабочим» и «личным» пространством
|
Разрушение корпоративного коммуникационного мейнстрима, характерного для поздней глобализации
|
|
Социальный слой |
Социально пригодный образ для подражания |
Формирование императивов общества потребления за счет маркетинговых коммуникаций
|
Постепенное внедрение идеологических ограничений в потребление через управление «повесткой» |
Выпускание «социального пара» через социально, цивилизационно или идеологически (например, ответственное потребление) мотивированные потребительские «флюсы»
|
|
Социально-политическая среда |
Принципиальное изменение характера политической вовлеченности человека в политическую среду |
Разрушение традиционной модели социально-политической стратификации общества |
Мозаизация политического пространства
|
Наблюдается резкий рост востребованности тактических информационно-политических манипуляций Нет востребованности долгосрочного «Образа будущего» |
|
Экономическая среда |
Формирование системы виртуального финансового посткапитализма на основе доллароцентричной финансовой системы |
Виртуализация (под видом цифровизации) экономической среды, прежде всего инвестиционной |
Маркетизация управления экономическим поведением на индивидуальном и групповом (в т. ч. «средние социальные группы») уровне |
Утрата значений основных экономических понятий, в частности, таких базовых понятий, как «прибыль» и эффективность» |
|
Социоидеологическая среда |
Возникновение информационно-политических суррогатов идеологий |
Маркетизация идеологий |
Переконструирование «длинной истории» |
Стирание грани между идеологией и пропагандой, превращение идеологии в набор тезисов |
|
Социокультурная среда |
Виртуализация социокультурных артефактов |
Социально-имущественная сегрегация доступа к культурным артефактам и Истории культуры
|
Возникновение разрыва культурно-исторических пластов
|
Виртуализация культуры шла крайне быстрыми, почти неконтролируемыми темпами
|
|
Образ жизни / целеполагание человека |
Маргинализация значения стратегического целеполагания по сравнению с состоянием «здесь и сейчас» |
Возникновение искусственно сконструированных приоритетов развития, оторванных от реальной жизни |
Фиктивизация жизненного целеполагания
|
«Власть коммуникаций» – важнейший инструмент процессов социальной атомизации |
Источник: авторский анализ и обобщение. Структурирование «сред» является авторской идеей, лежащей в основе крупного исследования, осуществляемого в настоящий момент автором относительно трансформации роли и места глобализированного ИО в современную историческую эпоху на переходе к неоглобальному миру.
Системная особенность механизма «власти коммуникаций» заключалась в формировании системы комплексного, но скрытого, не публичного воздействия на основные направления развития общества и человека.
Механизм «власти коммуникаций» фактически заменял собой классический для развитых обществ механизм публичной политической демократии (власти большинства общества, реализуемой через механизмы публичного выражения мнения доминирующих социально-экономических групп), то есть публичной манифестации социальных и социально-экономических интересов. Это позволило ряду западных исследователей сделать вывод о том, что современная система управления социально-политическими процессами в западном мире представляет собой механизм «управления пустотой» [13]. Эта метафора (впрочем, лишь отчасти отражающая реальную ситуацию: «власть коммуникации», по сути – управление общественными тенденциями и институтами «из сумерек» за счет механизмов, которые не могут рассматриваться в качестве социально-легитимных с точки зрения классических механизмов публичной политической власти) могла работать только в условиях относительно высокой степени структурированности общественных систем. Но это коренным образом противоречило параллельно развивавшимся тенденциям социальной атомизации. Эти тенденции были основой развития общественных систем обществ постмодерна.
Но это, в свою очередь, отражало крайне противоречивые тенденции в сфере отношений собственности, также ставшие продуктом чрезмерной, практически неограниченной реализации «власти коммуникаций» [16]. Но в условиях поздней глобализации с развитием сетевизированной информационно-технологической среды приобрели, вероятно, слабо контролируемый характер.
Важнейшие «узлы» кризиса «власти коммуникаций»: попытка первичного структурирования
Кризис модели управления глобализированным миром через «власть коммуникаций» стал результатом наслоения противоречивых тенденций в социально-технологическом, социально-политическом и социокультурном развитии, постепенно сужавших пространство, где «власть коммуникаций» имела заданную или как минимум предсказуемую эффективность как элемент социального управления.
В качестве наиболее ярко выраженных «узлов» кризиса концепта «власти коммуникаций» на данном этапе можно выделить следующие аспекты.
Кризис социальной универсальности. Внесение в социальное поведение «ценностного компонента», невозможного без масштабного использования информационно-манипулятивных компонентов, создало интересную коллизию, масштабы которой до сих пор не вполне понятны. С одной стороны, реализацию концепции «ценностно-ориентированного капитализма» [19] можно было осуществить только через механизмы «власти коммуникаций» что и повлекло массированные информационные кампании (особенно в период 2016–2023 годов) по формированию ответственного (то есть «ценностного» в своей основе) потребления. С другой – ограничить «пространство ценностей» только имитационной стороной вопроса не удалось. Процессы, запущенные на уровне информационных технологий, так или иначе вызвали к жизни масштабные изменения социальной среды. И этим был продемонстрирован ощутимый предел «власти коммуникаций». Вероятно, нужно считать именно этот аспект кризиса «власти коммуникаций» наиболее в долгосрочной перспективе чувствительным, но как минимум предопределившим все основные процессы, обусловившие неизбежность кризиса «мира власти коммуникаций». Отметим, что недостаточность существующих моделей анализа общества вполне осознавалась крупнейшими западными исследователями [12]. Предлагавшийся вариант сетевизации взамен свойственной индустриальному модерну иерархичности вполне соответствовал концепту «власти коммуникаций», технологически обеспечиваемому максимизацией возможностей кастомизации информации. Социальная универсальность также полностью вписывалась в идеологию постмодерна, включая и наиболее радикальные ее толкования.
Кризис целостности. Суверенизация национальных и региональных сегментов информационного общества. Центральным моментом в данном случае является изменение характера социо-коммуникационной гибридности [8], в которой наиболее практически (можно сказать, «операционно») значение начинают приобретать элементы, связанные как раз с «очностью». Но этот процесс носит разнотемповый характер в различных регионах, «цивилизационных пространствах», что создает выражающуюся в социально-политическом и институциональном развитии асимметрию воздействия внутри даже базовых целевых аудиторий в зависимости от степени вовлеченности тех или иных больших или малых групп в «онлайн» или «очную» часть гибридного пространства.
Кризис доверия. Наиболее серьезный аспект современного кризиса ИО, в среднесрочной перспективе «перекрывающий» большую часть остальных. Отметим в качестве центрального элемента кризиса крайне болезненный переход от «постправды» к «постреальности» [7] и попытку реализовать в сфере коммуникаций модель «цивилизационного разделения». Социальное мифотворчество и попытка построения мегамифов [2], подстроенных под средне-, а не долгосрочные задачи, привели к возникновению эффекта «конкурирующих мифов», причем конкурирующих в одном политическом пространстве. Кризис доверия к сегодняшнему ИО является результатом столкновения противоречивых политических тенденций в одном глобализированном и условно открытом информационном пространстве.
Кризис глобальной повестки, являющийся естественным результатом информационной регионализации. «Объединенный Запад» политически основывал свои действия на базе «разделения мира», что иногда приобретало радикальные формы (противостояние «оси зла»), но и в относительно спокойные периоды предполагало «освоение пространства». Это особенно проявилось на этапе перехода от продвижения ценностей постмодерна как многообразия к реализации повестки «мира демократий» как консолидирующего элемента. Но это не могло не иметь последствий с точки зрения организации национальных информационных пространств.
Кризис демедиатизации – наиболее сложный в структурном отношении аспект кризиса американоцентричного ИО, который затрагивает структурные, а значит – долгосрочные аспекты развития современного ИО. Демедиатизация рассматривалась как естественное проявление глобализации и до известной степени таковой и была [10], обеспечивая возможность почти неограниченной реализации на различных уровнях «мира власти коммуникаций» медийных нарративов, транслируемых глобальными каналами коммуникаций, «демократизация» которых в рамках концепции Э. Гидденса [22] не предполагалась. Ибо в таком случае разрушался бы принцип управления глобализацией через коммуникационный мейнстрим. Современное информационное общество дошло до предельных масштабов демедиатизации, что начало угрожать способности обеспечивать целостность и взаимоувязанность «нарративов», то есть фундаментальной функциональной основе «власти коммуникаций».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам проводимого исследования можно сделать несколько принципиальных выводов.
Первое. На данном этапе и развитие актуальной версии глобализированного ИО, и кризис модели «власти коммуникаций» как элемента этого развития в большей степени обусловлены внешними процессами, в частности, кризисом универсальной американоцентричности. А также стремлением крупнейших игроков в мировой политике и экономике защитить себя от использования цифровой среды в качестве оружия со стороны США. Технологическая среда ИО не претерпевает значимых изменений. Правомерна констатация: на среднесрочную перспективу определяющим в развитии ИО будет внешний контекст, определяемый сформировавшимся в крупнейших государствах мира запросом на ограничение использования США контролируемых ими каналов коммуникаций и социальных сетей как инструмента политического влияния.
Второе. Несмотря на все усилия превратить его в самодостаточный элемент глобализации, обладающий неким «сверхстатусом», способным задавать стратегические тенденции развития [4], что и было главной стратегической целью концепта «власти коммуникаций», ИО, выйдя за рамки чисто сервисной системы, так и осталось «социально-контекстным» явлением. И это принципиальная констатация, касающаяся роли и места ИО в мире грядущей полицентричности, которая будет опираться на механизмы «конкуренции ценностей». Констатируем, однако, что возникала большая гибкость в адаптации нарративов под конкретное пространство. На этом принципе в конечном счете был построен концепт посткапитализма, который, как считалось, способен трансформировать глобализацию в более гибкую систему.
Третье. Локальная адаптация глобальных нарративов за счет многоуровневости технологий «власти коммуникаций» создавала базу для внедрения содержательно значимых изменений в транслируемые нарративы, в перспективе способных изменить их суть. Но уже на этапе поздней глобализации происходил распад единого «поля нарративов» и расхождения трактовок «смыслов» в общественно-политической и социальной коммуникации. Так, в Евразии нарратив «демократия и свобода», являвшийся одним их фундаментальных для глобальной «повестки», под воздействием особенностей социальной среды и исторической памяти значительной части постсоветского пространства трансформировался в концепт «народовластие и справедливость», бесконечно далекий от изначально заданных рамок понятия. Этот феномен тем более будет проявляться в вопросах, связанных с социальными и экономическими аспектами развития конкретных обществ. Но в современной ситуации «расхождение смыслов» начинает дополняться нарастающей утратой операционной целостности глобализированного ИО.
ВЫВОДЫ
Подводя итог этой части более широкого исследования, проводимого автором, в качестве ключевого диалектического противоречия современного информационного общества можно сформулировать следующее.
Технологическая среда мира власти коммуникаций» приобрела практически законченные формы, но социальная среда, в которой реализовывались технологии, эволюционировала крайне быстро. Но это происходило с существенными региональными/локальными отличиями, получившими наименование «глокализации». На сегодняшний день формальная (а в ряде случаев формалистическая) глокализация (в частности, в наибольшей степени проявившаяся в шоу-бизнесе и продукции для телевидения, где полностью господствовали немногочисленные отраслевые ТНК) свой потенциал исчерпала. Создаются условия для трансформации кризиса модели «власти коммуникаций», что приведет к утрате глобализированным ИО своей структурной, а затем и содержательной целостности. Возможности адаптации региональных информационных сегментов внутри единой системы исчерпаны. В среднесрочной перспективе на распад целостности глобализированного ИО будет действовать и внешняя среда.
References
- Afanas’ev V. G. Social’naya informaciya i upravlenie obshhestvom [Social information and public administration]. Stereotype ed., Moscow, LENAND Publ., 2023. 408 p.
- Bart R. Mifologii [Mythology]. Moscow, Akademicheskij proekt Publ., 2010. 351 p.
- Bell D. Gryadushhee postindustrial’noe obshhestvo [The coming post-industrial society]. Moscow, Akademiya Publ., 2004. 944 p.
- Bolduin R. Velikaya konvergenciya. Informacionnye tehnologii i novaya globalizaciya [The great convergence. Information technology and the new globalization]. Moscow, Izdatel’skij dom Delo RANHiGS Publ., 2018. 416 p.
- Boltanski L., K’yapello Jev. Novyj duh kapitalizma [The New Spirit of Capitalism]. Moscow, Novoye literaturnoe obozrenie Publ., 2010. 976 p.
- Van Deyk T. A. Diskurs i vlast’: Reprezentacita dominirovaniya v yazyke i kommunikacii [Discourse and Power: Representation of Dominance in Language and Communication ]. Moscow, URSS: Knizhnyj dom LIBROKOM Publ., 2015. 352 p.
- Dmitriev O. A., Evstaf’ev D. G. Global’naya konkurenciya cennostey: ot «postpravdy» k «postreal’nosti» [Global competition of values: from «post-truth» to «post-reality»]. Mezhdunarodnaya zhizn, 2024, no.7, pp. 12–23.
- Evstaf’ev D. G. Socio-kommunikacionnaya gibridnost’ kak svojstvo sovremennogo informacionnogo obshhestva [Socio-communication hybridity as a property of modern information society]. Media. Dizayn, 2021, no. 6 (1). pp. 22–38. Available from: https://cmd-journal.hse.ru/article/view/12200 (accessed 23 December 2024)
- Kastel’s M. Vlast’ kommunikacii [The power of communication].. Moscow, Izdatel’skij dom Vyshej shkoly yekonomiki Publ., 2016. 564 p.
- Kin Dzh. Demokratiya i dekadans media [Democracy and decadence of the media]. Moscow, Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki Publ., 2015. 312 p.
- Lan’e Dzh. Komu prinadlezhit budushhee? Mir, gde za informaciju budut platit’ vam [Who owns the future? A world where you will be paid for information]. Moscow, EKSMO Publ, 2020. 560 p.
- Latur B. Peresborka social’nogo: vvedenie v aktorno-setevuyu teoriyu [Reassembling the Social: an Introduction to Actor-Network Theory]. Moscow, Izdatel’skij dom Vysshej shkoly ekonomiki Publ., 2020. 384 p.
- Mayr P. Upravlyaja pustotoy. Razmyvanie zapadnoy demokratii [Controlling the void. The Erosion of Western democracy]. Moscow, Izdatel’stvo Instituta Gaydara, 2019. 216 p.
- Maklyuyen G. M. Galaktika Gutenberga. Stanovlenie cheloveka pechatayushhego [The Gutenberg Galaxy. Becoming a Printer]. Moscow, Akademicheskij proekt Publ., 2005. 496 p.
- Masuda J. Komp’yutopiya [The computer world]. Moscow, Ideya-Press Publ, 1998. 358 p.
- Perzanovski A., Shul’c Dzh. Konec vladeniya: lichnaya sobstvennost’ v cifrovoy ekonomike [The End of Ownership: Personal Property in the Digital Economy]. Moscow, Izdatel’skij dom Delo RANHiGS Publ., 2019. 352 p.
- Terborn J. Ot marksizma k postmarksizmu? [ From Marxism to post-Marxism?]. Moscow, Izdatel’stvo Vysshej shkoly ekonomiki Publ., 2021. 256 p.
- Toffler Je. Tret’ya volna [The third wave]. Moscow, AST Publ., 2010. 800 p.
- Shvab K., Vyenhyem P. Kapitalizm vseobshhego blaga: novaya model’ mirovoj ekonomiki [Universal Benefit Capitalism: a new model of the global economy]. Moscow, Eksmo Publ., 2022. 352 p.
- Craig R. «Communication Theory as a Field. Communication Theory, 1999, Vol. 9, pp. 119–161.
- Floridi L. The 4th revolution. How the infosphere is reshaping the human reality. London – New York, Oxford University Press, 2014. 248 p.
- Giddens A. Runaway World: How Globalization is Reshaping our Lives. New York, Routledge, 2003. 104 p.
- Nye Joseph S. Jr. How Sharp Power Threatens Soft Power. The Right and Wrong Ways to Respond to Authoritarian Influence. Foreign Affairs, January, 24, 2018. Available from: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-01-24/how-sharp-power-threatens-soft-power (accessed 23 December 2024).
[1] Статья является развитием выступления автора на Международной научно-практической конференции «Медиакоммуникации и журналистика: история, культура, технологии, практика» в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского 17–18 октября 2024 г.