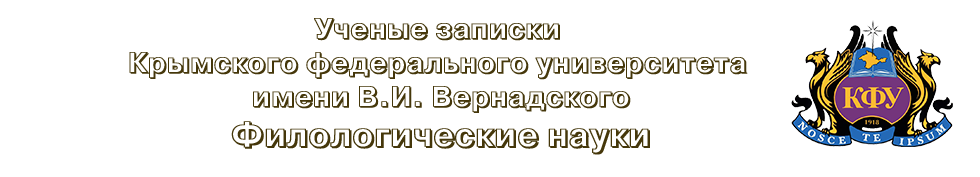SELF-PRESENTATION IN SCIENTIFIC DIALOGUE
JOURNAL: «Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philological sciences», Volume 11 (77), № 3, 2025
Publication text (PDF): Download
UDK: 811.161.1’42’38:001
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:
Chalova O. N., Francisk Skorina Gomel State University, Gomel, Belarus
TYPE: Article
DOI: https://10.29039/2413-1679-2025-11-3-202-210
PAGES: from 202 to 210
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: scientific dialogue, self-presentation, identification, categorization, argumentation.
ABSTRACT (ENGLISH): The focus of this work is on speech acts of self-presentation, functioning in oral scientific dialogue interpreted as public speech, characterized by a spontaneous, highly expressive, polemic, etc. character. The paper highlights and describes the types of self-presentation presented in oral scientific dialogue: I self-presentation and we-self-presentation (differentiated on the basis of the criterion «the subject of self-presentation»), professional and non-professional self-presentation (differentiated on the basis of the parameter «degree of personalization»), expanded and non-expended self-presentation (classified in terms of the completeness of self-expression), positive and negative self-presentation (classified in terms of the vector orientation of self-presentation). The pragmatic properties of speech acts of self-presentation have been described: argumentation (which is about justifying some statement), prevention (which is about avoiding responding), demonstration (presenting the speaker), etc. Finally, the conclusion about a great diversity of speech acts of self-presentation as well as about their different pragmatics in oral scientific dialogue has been made, which proves their highly important role in dialogical forms of scientific discourse.
ВВЕДЕНИЕ
Объектом исследования является устный научный диалог (далее – научный диалог), рассматриваемый как вид научного общения, принципиально отличающийся от монологических (центральных/первичных) жанров научной речи в коммуникативном плане. Эти отличия обусловлены специфической природой научного диалога: его относительной импровизационностью, эмоционально-экспрессивным характером, ярко выраженной оценочностью и под. [5; 6; 10 и др.], сближающими научный диалог с разговорной коммуникацией.
Наличие черт обыденно-разговорного дискурса в пространстве научного диалога оказывает существенное влияние на коммуникативно-прагматическую организацию последнего, в том числе и на специфику актуализации речевых актов самопрезентации. Обращение к аспектам использования данного типа высказываний в научном диалоге могло бы расширить представления лингвистов о механизмах формирования и укрепления имиджа говорящего, а также о приемах воздействия на адресата в условиях собственно диалогического общения, в том числе и в сфере науки. Сказанное обусловливает актуальность настоящего исследования, цель которого состоит в выявлении специфики функционирования речевых актов самопрезентации в научном диалоге, установлении их видов и прагматической роли. Основной метод исследования – классификационный и лингвопрагматический анализ: первый направлен на выделение разновидностей самопрезентации в изучаемом типе коммуникации, второй – на выявление функционально-прагматических свойств соответствующих речевых действий. В качестве материала исследования используются контексты, содержащие акты самопрезентации (около 150 контекстов). Источник материала – стенограммы устных научных дискуссий различной тематики (дискуссии по естественным и гуманитарным наукам) общим объемом 250 тысяч словоупотреблений.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ
Самопрезентация трактуется в лингвистике двояко: в широком смысле под самопрезентацией подразумевается «намеренное и осознаваемое поведение, направленное на создание определенного впечатления о себе у окружающих» [15, с. 7] (чаще всего положительного впечатления [2, с. 160; 12, с. 89]), «стратегия управления впечатлением о говорящем у адресата» [9, с. 33], к которой «присоединяются дополнительно другие стратегии» [8, с. 73]. В узком понимании самопрезентация сводится к самоидентификации, то есть акту причисления себя к конкретной группе, к определенной категории людей [9].
Как показывает анализ литературы, по отношению к письменному научному дискурсу при определении самопрезентации обычно применяется широкий подход, поскольку самоидентификация в письменных научных текстах практически не используется. При этом стратегия самопрезентации рассматривается как совокупность тактик, ориентированных на убеждение адресата в правильности авторской позиции, то есть фактически отождествляется с персуазивной стратегией как системой аргументативных тактик, а также связывается с тактиками, направленными на формирование категоричности и уверенности [11], содействующими реализации глобальной цели, лежащей в основе стратегии самопрезентации в научном дискурсе – «быть принятым в качестве полноценного члена научного сообщества» [7], что предполагает создание позитивного имиджа коммуниканта как беспристрастного ученого, приверженца определенной точки зрения и под. Помимо этого, стратегия самопрезентации в научном дискурсе описывается и сквозь призму актуализации тактики самовыражения, связываемой, по сути, с реализацией категории авторизации в научном тексте [7]. Сказанное позволяет сделать вывод о доминировании в письменных видах научной речи а) имплицитной (скрытой) [1, с. 110], б) позитивно маркированной и в) профессионально ориентированной самопрезентации.
Такой широкий подход к анализу самопрезентации размывает границы исследуемого объекта, в связи с чем в данной работе принимается узкая трактовка, согласно которой самопрезентация рассматривается как самоидентификация, представляющая собой неоднородный феномен, включающий а) собственно самоидентификацию как обозначение своей принадлежности к определенной группе (или, в терминологии М. А. Лаппо [9, c. 40], самоидентификацию-1) и б) самохарактеризацию как акт самооценки, то есть описание собственных личностных качеств, оценку себя, своих действий и особенностей с точки зрения «хорошо-плохо» (или, в терминологии М. А. Лаппо, самоидентификацию-2 [там же]). Сказанное можно сжато представить в виде следующего тождества: самопрезентация = самоидентификация (собственно самоидентификация + самохарактеризация). Выбор такого подхода к анализу самопрезентации в устном научном диалоге объясняется, во-первых, статусом самоидентификации как ядерного компонента тотальной самопрезентации, на который последняя «опирается» [9, с. 40], а во-вторых, спецификой устной диалогической коммуникации, обусловливающей активизацию самоидентификации.
Опора на узкую трактовку понятия самопрезентации позволяет выявить следующие четыре тенденции ее актуализации в устном научном диалоге.
- Активизация прямой самопрезентации
По нашим наблюдениям, в устном научном диалоге регулярное выражение получает прямая самопрезентация, причем основанная не столько на механизме самохарактеризации, сколько на приеме самоидентификации (в научном диалоге самопрезентация = самоидентификация). Что касается тактики самохарактеризации, то она оказывается нерелевантной для диалогических форм научной речи и в рамках настоящей статьи не рассматривается.
С опорой на тип субъекта в научном диалоге обнаруживается два типа самопрезентации (самоидентификации): я-самоидентификации и мы-самоидентификации.
«Я»-самоидентификация («я» как часть группы) чаще всего реализуется посредством указаний на свою принадлежность к определенной профессиональной группе: Как психологу мне кажется, что это фантом для методологов (обсуждение научного доклада В. Л. Даниловой «К проблеме вклада ММК в развитие психологии», 2005). Если в монологических научных жанрах прямая «я»-самоидентификация обычно имеет место в разделе «сведения об авторе», то в научном диалоге – на любом этапе речевого взаимодействия, при этом расширяется диапазон ее прагматических задач, в связи с чем «я»-самоидентификация используется уже не только для самообозначения, но и в качестве аргумента, обоснования своего мнения, оправдания своих решений и действий, а также в целях акцентуации и защиты от «нападения». Так, в примере выше обозначение себя как психолога используется в качестве аргумента в пользу идеи отсутствия необходимости анализа проблемы вклада Московского методологического кружка в развитие психологии и важности определения вклада данного научного сообщества в собственно методологию.
Важно отметить, что в устном научном диалоге я-самоидентификация может одновременно носить инклюзивный и эксклюзивный характер (или конвергентный и дивергентный, в терминологии других авторов [3; 4; 13; 14]), то есть включать говорящего в одну группу и одновременно исключать его из другой: Прогнозы я оставляю пророкам. Я ученый. Поэтому занимаюсь больше прошлым, чем будущим (обсуждение научного доклада Т. Шанина «О жизни и науке», 2009). В данном примере обнаруживается четкое противопоставление двух категорий – ученых и «пророков». Такая оппозиция позволяет говорящему, относящему себя к первой категории, мотивировать свой отказ делать прогнозы относительно изменения характера общества.
«Мы»-самоидентификация выступает в двух разновидностях: а) инклюзивной самоидентификации, объединяющей субъекта речи и непосредственного адресата, то есть относящей говорящего и других присутствующих на обсуждении лиц к группе единомышленников (инклюзивное мы = «я + вы» как часть группы) и в функциональном плане принципиально отличающейся от традиционного для научной речи авторского «мы», служащего маркером исследовательской скромности и придающего научной речи обезличенный и объективный характер: напротив, в научном диалоге такая «мы»-самоидентификация призвана осуществлять совершенно иные коммуникативные интенции, чаще – собственно идентификационную и аргументативно-защитную, связанную с пояснением своей точки зрения / позиции / мнения: Поскольку я предполагаю, что мы сейчас выступаем как историки: просто разбираемся с тем, что было, у меня это лежит на онтологической доске (обсуждение научного доклада В. Л. Даниловой «К проблеме вклада ММК в развитие психологии», 2005): идентификация себя в качестве историка функционирует как аргумент в пользу применения онтологического подхода к рассмотрению определенного вопроса; б) эксклюзивной самоидентификации, «мы»-самоидентификации – противопоставляющей/ дифференцирующей субъекта речи и окружающих (эксклюзивное «мы»: «мы» как часть одной группы ≠ «вы» как часть другой группы): Наверное, я все-таки не четко задала вопрос. Обобщение аналитическое, которое может быть представлено в тексте, оно не верно, с моей точки зрения, но возможно на какой-то эмпирии. Мы как социологи эмпирию набираем в поле, изучаем человека и т.д., а дальше набирается объем исследований, возникает диапазон интерпретаций, и ты можешь делать концептуальное обобщение и давать оценку (обсуждение научной лекции А. Л. Зорина «Гуманитарное образование в трех национальных образовательных системах», 2009). Участниками приведенного фрагмента речевого взаимодействия являются представители разных областей гуманитарного знания: истории и социологии. Отсылка одного из коммуникантов к собственному профессиональному статусу (мы как социологи) используется в информационно-экземплификационных целях, для уточнения способов осуществления сбора эмпирических данных именно представителями социологической науки.
Таким образом, прямая самопрезентация, фактически сводящаяся к самоидентификации, является неизменным атрибутом устного научного диалога и эффективным приемом убеждения адресата, маркирования своих границ, полномочий и знаний. При этом самопрезентация может носить как конвергентный / объединяющий характер, когда ее основу составляет стремление говорящего быть «как все», так и дивергентный, связанный с желанием субъекта речи продемонстрировать свое отличие от окружающих.
Что касается прагматики самопрезентации, то, как было показано выше, речевые акты самопредставления используются для реализации двух противоположно направленных задач: либо для убеждения адресата в сообщаемом (в случае если ссылка на собственную отнесенность к конкретной профессиональной группе / сообществу используется в качестве основания для определенного утверждения), либо для отказа / уклонения от ответа (в случае если ссылка на собственную принадлежность к определенной категории людей предполагает исключение себя из другой группы лиц и косвенно демонстрирует отсутствие полномочий говорящего для формулировки определенного утверждения).
- Активизация профессиональной и непрофессиональной самопрезентации
Поскольку научный диалог относится к профессиональной коммуникации, особое значение в нем приобретает профессионально ориентированная самопрезентация, что проявляется в ее регулярном использовании и видовом разнообразии. Так, в научном диалоге профессиональная самопрезентация варьируется не только по типу субъекта («я»-самопрезентация и «мы-самопрезентация») или прагматическим функциям (от аргументации – до снятия ответственности за сообщаемое), но и по некоторым другим параметрам:
а) аспектам профессиональной деятельности:
— отраслевая самопрезентация: Естественно, как представитель социальных наук, я хочу задать вам вопрос (обсуждение научной лекции М. Л. Бутовской «Эволюционные основы агрессии и примирения у человека», 2012),
— должностная: У меня радиальное возражение, но я его выскажу чуть позже. В качестве официальной позиции Корпорации социального дизайна, поскольку я являюсь ее научным руководителем (круглый стол «Социокультурные функции философии: теория и практика», 2005),
— участническая: И тем не менее я был постоянным членом кружка, для меня кружок значил очень многое (обсуждение доклада Б. В. Сазонова «Методология как технология», 2004),
— тематическая: У меня тоже технический вопрос. Я занимаюсь нарративной традицией блоггеров. Там масса неологизмов, словосочетаний интересных, хотелось бы узнать, ведется ли мониторинг, и каков период обработки, разметки таких текстов? (обсуждение научной лекции В. А. Плунгяна «Почему современная лингвистика должна быть лингвистикой корпусов», 2009) и нек. др.;
б) уровню обобщенности/конкретизации:
— общая/центральная: Я как экономист, когда слушаю вас, хочу сказать, что в этой стране было очень плохо с конкуренцией (обсуждение научной лекции С. Иванова «Второй Рим глазами Третьего: Эволюция образа Византии в российском общественном сознании», 2009);
— конкретизированная/частная: Я работаю с культурой скотоводов и охотников-собирателей. В обоих случаях женская агрессивность ненамного ниже мужской (обсуждение научной лекции М. Л. Бутовской «Эволюционные основы агрессии и примирения у человека», 2012).
Ссылка на принадлежность к профессиональному сообществу придает изложению объективный характер, акцентирует значимость сообщаемого и в немалой степени обусловливает доверительный характер восприятия информации адресатом.
В отличие от монологических жанров научной речи устный научный диалог располагает возможностями для актуализации не только профессиональной, но и непрофессиональной самопрезентации, которая, по нашим наблюдениям, представлена следующими разновидностями:
— общечеловеческая самоидентификация: Мы, люди, ищем предков (обсуждение научной лекции Т. В. Черниговской «Язык и сознание: что делает нас людьми?»): субъект речи указывает на свою принадлежность к максимально широкой категории «человек», на наличие у представителей данной категории общих интересов, возможностей и под.;
— гражданская / топонимическая самоидентификация: Но когда мы ведем речь о бурятском этносе, нужно сказать, что в России мы разделены на пять частей (обсуждение доклада В. А. Ламина, 2004), в отдельных случаях совмещенная с профессиональной: Отчасти меня это печалит как гражданина. Но и как византиниста тоже (обсуждение научной лекции С. Иванова «Второй Рим глазами Третьего: Эволюция образа Византии в российском общественном сознании», 2009);
— межличностная самоидентификация – указание на характер отношений, в которых состоит говорящий с третьим лицом: Я, его товарищ, спрашиваю: «Что ты имеешь в виду? Что статьи есть? Или что это сделано?» (обсуждение научного доклада В. Г. Марача «Методология ММК как метафронезис коллективно-распределенного мышления», 2005).
Если профессиональная самопрезентация как указание на принадлежность к сообществу экспертов обычно подчеркивает авторитет и статус говорящего, позволяет ему выделиться из ряда других исследователей, то непрофессиональная самопрезентация акцентирует общность решаемых проблем и задач.
Таким образом, нельзя сказать, что в научном диалоге имидж его участников является сугубо внутренним/профессиональным. Конечно, непрофессиональные качества ученого отходят на второй план, но это не значит, что адресату совершенно неизвестна внешняя сторона личности исследователя. Напротив, в научном диалоге регулярно актуализируется непрофессиональная самопрезентация, акценты смещаются с деперсонализации на персонализацию.
- Использование негативной самопрезентации
Принято считать, что самопрезентация в научном дискурсе всегда положительно направлена [1, с. 111]. Такое положение дел обусловлено стремлением коммуниканта укрепить свой имидж ученого и упрочить свое положение в научном мире. При этом позитивная самопрезентация обычно обеспечивается указанием на свои достижения, обладание новыми / специальными знаниями, принадлежность к авторитетному научному сообществу и т. д.: Я думаю, что это ответ на вопрос, почему я занялся социологией знания и крестьяноведением (я и стал специалистом в обеих областях) (обсуждение научного доклада Т. Шанина «О жизни и науке», 2009).
Однако в условиях диалога знак выражаемого отношения может меняться, в результате чего самопрезентация приобретает негативный характер. На первый взгляд может показаться, что такое речевое поведение должно противоречить интенциям ее участников. Однако на практике негативная самопрезентация почти всегда безобидна, а ее использование в научном диалоге оправдано характером тех функций, которые она призвана выполнять.
По нашим наблюдениям, в изучаемом типе общения негативная самопрезентация представлена только негативной «я»-самоидентификацией. Если я-самоидентификация в целом – это процесс и результат маркирования себя в качестве представителя определенной группы / категории лиц, то негативная я-самоидентификация представляет собой отказ от конкретной социальной (чаще – профессиональной) роли, от принадлежности к сообществу людей, например:
Мне кажется (я не специалист по СМД), что это совершенно другая линия, чем просто отношение мышления и деятельности на ранних этапах (обсуждение научного доклада Б. Д. Эльконина «Проблема развития в психологической теории деятельности (ТД) и СМД-методологии», 2004).
Я не социолог, но мне показалось из вашего выступления, что метасоциологизм <…> больше является какой-то абстрактно-ментальной ловушкой, которая замыкает по кругу размышление, но содержательно ничего не добавляет. Как вы можете это прокомментировать? (обсуждение научной лекции М. Л. Бутовской «Эволюционные основы агрессии и примирения у человека», 2012).
Я не специалист в данной области, но мне просто интересно. Мы строим деревья: на уровне белка, механизма, это понятно, а можно ли их строить дальше, как предсказание? <…> Ведутся ли такие работы? (обсуждение научной лекции М. С. Гельфанда «Геномы и эволюция», 2008).
Как видно, в научном диалоге ссылки на собственный «отрицательный» статус используется для очерчивания границ своей компетенции, для самооправдания и обоснования возможной ошибочности своих суждений или неправомерности вопроса и, таким образом, снимают ответственность говорящего за сообщаемое, заранее ориентируют адресата на снисходительное отношение к сообщению или вопросу говорящего, выполняют сигнально-предупредительную роль.
Из сказанного следует, что негативная самоидентификация отличается отсутствием дискредитирующего начала по отношению к говорящему. Другими словами, она относится к негативной лишь формально и в аксиологическом плане имеет, скорее, нейтральный статус, не предполагает понижение статуса говорящего и не наносит урона его репутации.
- Использование свернутой и развернутой самопрезентации
Самопрезентация в научном диалоге может носить более или менее развернутый характер. До сих пор в фокусе нашего внимания находилась самопрезентация, направленная на беглое подтверждение идентичности говорящего (самоидентификация). Однако в диалогической научной речи обнаруживаются и контексты с более подробной и демонстративной презентационной составляющей. Если первые используются не столько для представления и создания определенного образа говорящего, сколько для выполнения аргументативных функций (как основание для формулировки определенного тезиса или основание для отказа от такой формулировки), то вторые – на детальное представление субъекта речи окружающим, ср.:
Это было в Иерусалимском университете. Я узнал русский, который образованные русские не знают, крестьянский русский. Я читал документы. Например, довольно много времени я провел, читая решение судов старейшин, которые были часто безграмотными (обсуждение научного доклада Т. Шанина «О жизни и науке», 2009).
Как видно из приведенного фрагмента, подобные контексты обычно представляют собой автобиографические включения. В таких условиях доля презентационного компонента существенно возрастает, в связи с чем последний занимает центральное положение в сообщении, а управление впечатлением аудитории о говорящем выходит на первый план. В этом случае самопрезентация фактически превращается в самоцель.
В отличие от подобных личностно ориентированных вкраплений в собственно научных (профессиональных / деловых) контекстах роль самопрезентационной интенции менее значительна: Я как профессор теоретической лингвистики хотела бы на нее взглянуть. Такой структуры нет (обсуждение научной лекции Т. В. Черниговской «Как мы мыслим? Разноязычие и кибернетика мозга», 2009). Их основная задача, как указывалось ранее, обычно сводится к убеждению собеседника в сообщаемом и в присоединении к авторитету конкретного научного сообщества.
Ни демонстративная (развернутая), ни недемонстративная (свернутая) самопрезентация в письменных жанрах научной речи не встречаются: обе составляют специфику собственно диалогической научной коммуникации.
ВЫВОДЫ
Подытожим сказанное в нескольких положениях. Во-первых, устный научный диалог предоставляет широкие возможности для использования речевых актов самопрезентации. Во-вторых, речевые акты самопрезентации отличаются исключительной вариативностью (профессиональная и непрофессиональная, позитивная и негативная, а также свернутая и развернутая самопрезентация). Наконец, широкое разнообразие речевых актов самопрезентации обусловлено их статусом значимого коммуникативного феномена, призванного выполнять в научном диалоге важные прагматические задачи (самопредставления, формирования собственного образа и отношения к себе (мнения о себе), аргументации или уклонения от ответа).
References
- Aksenova A. V. Strategija samoprezentacii kak sredstvo formirovanija imidzha v raznyh vidah diskursa [Self-presentation strategy as a means of image formation in different types of discourse]. Aktual’nye problemy filologii i pedagogicheskoj lingvistiki, 2013, no. 15, pp. 109–114.
- Vershinina E. N. Kommunikativnye taktiki sozdanija imidzha vuza (na materiale gazety “Poisk”) [Communicative tactics of creating the university’s image (based on the material of the newspaper «Poisk»)]. Sibirskij filologicheskij zhurnal, 2015, no. 1, pp. 159–164.
- Dubskih A. I. Sredstva realizacii kommunikativnoj strategii samoprezentacii lichnosti v massovo-informacionnom diskurse [Means of implementing a communicative strategy of self-presentation of a personality in mass information discourse]. Vestnik Cheljabinskogo universiteta. Ser. Filologija. Iskusstvovedenie, 2008, no. 26, pp. 50–54.
- Dubskih A. I. Realizacija kommunikativnoj strategii samoprezentacii lichnosti v mass-medial’nom diskurse (na materiale «zvezdnyh» interv’ju): Dis. … kand. filol. nauk [Implementation of a communicative strategy of self-presentation of a personality in mass-media discourse (based on the material of “star” interviews). Thesis]. Cheljabinsk, 2014. 225 р.
- Zadvornaja E. G. Vidy nauchnoj diskussii i ih pragmaticheskie harakteristiki [Types of scientific discussion and their pragmatic characteristics]. Stil’: mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal, 2008, no. 8, pp. 213–224.
- Zadvornaja E. G. Jemocional’naja ocenka v nauchnom dialoge [Emotional assessment in scientific dialogue]. Professional’no orientirovannoe obuchenie mezhkul’turnoj kommunikacii: teorija i praktika: theory and practice: sbornik nauchnyh statej. Minsk, MGLU Publ., 2022, pp. 88–93.
- Zenevich N. V. Osobennosti realizacii strategii samoprezentacii v nauchnom diskurse na anglijskom i belorusskom jazykah [The specifics of the implementation of the strategy of self-presentation in scientific discourse in English and Belarusian]. Molodye uchenye v innovacionnom poiske: sbornik nauchnyh statej (Minsk, 30 – 31 maja 2018 goda). Minsk, MGLU Publ., 2019, pp. 3–9.
- Issers O. S. Kommunikativnye strategii i taktiki russkoj rechi [Communication strategies and tactics of the Russian language]. Omsk, Omsk. Publ., 1999. 284 p.
- Lappo M. A. Samoidentifikacija: semantika, pragmatika, jazykovye resursy [Self-identification: semantics, pragmatics, language resources]. Novosibirsk, NGPU Publ., 2013. 180 p.
- Maslova L. N. Vyrazhenie soglasija / nesoglasija v ustnoj nauchnoj kommunikacii: gendernyj aspekt: Dis. … kand. filol. nauk [Expression of consent/disagreement in oral scientific communication: gender aspect. Thesis]. Moscow, 2007. 192 р.
- Solov’eva N. V. Strategii prezentacii kommunikantov v tekstah nauchnyh diskussij [Strategies for the presentation of communicants in the texts of scientific discussions]. Vestnik Permskogo universiteta, 2009, no. 1, pp. 29–37.
- Sorokina Ju. V. Strategija samoprezentacii kak jelement jeffektivnogo rechevogo vozdejstvija v ramkah pedagogicheskogo diskursa [The strategy of self-presentation as an element of effective speech influence in the framework of pedagogical discourse]. Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Filologija. Iskusstvovedenie, 2014, no. 6, pp. 89–92.
- Cherkasova I. S. Realizacija kommunikativnoj strategii samoprezentacii lichnosti v russkih i nemeckih objavlenijah o znakomstve: Dis. … kand. filol. nauk [Implementation of a communicative strategy of self-presentation of a personality in Russian and German dating ads. Thesis]. Volgograd, 2006. 252 р.
- Cherkasova I. S., Krasavskij N. A. Samoprezentacija lichnosti v Internete i pechatnyh SMI [Self-presentation of personality on the Internet and print media]. Internet-kommunikacija kak novaja rechevaja formacija [Internet communication as a new speech formation]. Moscow, Flinta Publ., Nauka Publ., 2012, pp. 189–202.
- Shkuratova I. P. Samopredjavlenie lichnosti v obshhenii [Self-expression of personality in communication]. Rostov-on-Don, YUFU Publ., 2009. 192 p.