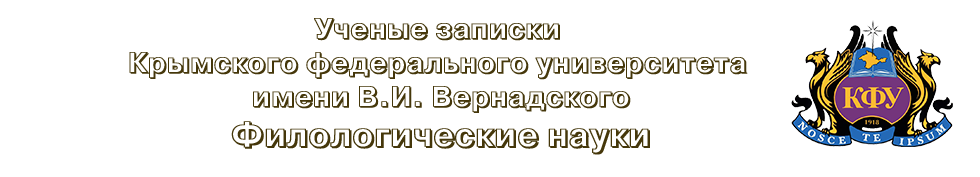THE SPACE-TIME CONTINUUM OF V. KHLEBNIKOV’S POETICS
JOURNAL: «Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philological sciences», Volume 11 (77), № 3, 2025
Publication text (PDF): Download
UDK: 82.09
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:
Kamensky K. V., Kursk State University; Kursk Laboratory of Forensic Expertise of the Ministry of Justice of the Russia, Kursk, Russian Federation
TYPE: Article
DOI: https://10.29039/2413-1679-2025-11-3-66-77
PAGES: from 66 to 77
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: V. Khlebnikov, space, time, space-time, chronotope, futurism.
ABSTRACT (ENGLISH): The article studies the peculiarities of comprehension of the categories of space and time in the work of Velimir Khlebnikov. Artistic and philosophical views on these concepts are analyzed. The author’s reasoning concerning the unity of space and time is given and commented. On the basis of the biography and creative heritage of V. Khlebnikov the features of the philosophical and artistic concept of the laws of time are described. On the material of artistic works the poem «Khadzhi-Tarkhan», poems «Ochi Okі», «Nizhny», «Vremenin I», drama «Mirskontsa»), as well as other works (notes, letters, articles, fragments from «Boards of Destiny») the peculiarities of representation of the categories «space» and «time» as artistic elements of V. Khlebnikov’s poetics are considered. The functional roles of the images of space and time are defined, the individual-authorial ways of their representation in Khlebnikov’s fiction and non-fiction texts are revealed. The conclusions about the inseparability of the author’s theoretical constructions and his creative practice are drawn. The peculiarities of the embodiment of images of space and time in the author’s poetics are established, as well as the possibility of their interpretation through each other.
ВВЕДЕНИЕ
В классических художественных текстах категории «пространство» и «время» составляют непременное условие восприятия художественного мира, т. е. являются априорными: читатель всегда понимает, что описываемые события происходят в определенном месте и в определенное «время», даже если об этом не говорится прямо. Однако в литературе конца XIX – начала XX вв. составные элементы хронотопа и методы письма начинают трансформироваться и переосмысливаться, что отчасти вызвано кризисом традиций в искусстве (ощущением исчерпанности реализма как художественного метода), приведшим сначала к декадансу с его упадническим мировосприятием, а затем к модернизму с его творческим энтузиазмом. С другой стороны, в это же время происходит разработка новых естественно-научных концепций (так, физика Ньютона уступает место физике Эйнштейна, а обособленные друг от друга «пространство» и «время» объединяются в единый континуум). В эту эпоху наука и искусство стремительно развиваются и иногда пересекаются.
В русской литературе указанного периода одним из художников мысли, активно внедряющих элементы новых научных понятий в свои произведения, становится поэт-футурист Велимир Хлебников. В его творчестве объединяются различные области знания, среди которых, например, лингвистика (Хлебников активно создает новые слова на основе архаичных морфем: словесо, Бозничий, негный, славязь и др.) и математика (образы чисел, особенно мнимой единицы, становятся постоянными художественными элементами поэтики автора [9, с. 143–151; 22, с. 451; 24, с. 336]). Особо стоит отметить интерес Хлебникова к физике и истории, который проявлялся в стремлениях найти «основной закон времени» [20, с. 277] и обозначить себя как одного из тех, «кто связал время с пространством» [27, с. 7]. Образы «пространства» и «времени» в творчестве Хлебникова на современном этапе продолжают оставаться объектом пристального научного внимания [6; 7; 11; 16; 18; 21]. Однако ученые в основном анализируют теоретические взгляды Будетлянина на указанные категории, практическое же воплощение «пространства-времени» в конкретных художественных текстах редко выступает как самостоятельная область анализа (к примеру, Р. В. Дуганов говорит о «пространстве» и «времени» в связи с анализом поэмы «Ладомир» [10, с. 67-68], а К. А. Кедров – в связи с повестью «Ка» [14, с. 191–193]). Кроме того, недостаточно изучены особенности хлебниковского осмысления категории «время» в связи с таким философским направлением, как «этернализм». О «вневременности» (и «внепространственности») поэта и его творчества отдельно писал Г. О. Винокур [5], но в его работе данный аспект представлен в качестве тезиса, без предметного описания на материале конкретных произведений. Перечисленные обстоятельства обусловливают актуальность данного исследования.
Цель исследования – анализ образов «пространства» и «времени» в творчестве Хлебникова как философских категорий и элементов авторской поэтики.
Новизна предпринятого исследования обеспечивается многоаспектным анализом представленных в сочинениях Хлебникова категорий «пространство» и «время», то есть рассматриваются: 1) выраженные непосредственно поэтом теоретические взгляды на «пространство» и «время»; 2) способы их художественного воплощения на материале как известных в исследовательской среде, так и малоизученных в данном аспекте произведений с учётом биографического контекста; 3) работы велимироведов, в которых описываются особенности представления избранных категорий в поэтике Будетлянина; 4) связь теоретических авторских взглядов на «пространство», «время», «пространство-время» с естественно-научным («пространство-время» Г. Минковского) и философским (этернализм) контекстами.
Материалом исследования послужили вошедшие в шеститомное собрание сочинений поэта под редакцией Р. В. Дуганова и Е. Р. Арензона [22–27] художественные и нехудожественные тексты В. Хлебникова: литературные произведения (поэма «Хаджи-Тархан», стихотворения «Очи Оки», «Нижний», «Времяни́н я», драма «Мирско́нца»), заметки, письма, статьи, а также фрагменты из работы «Доски Судьбы» [1].
Для исследования категорий «пространство» и «время» в творчестве В. Хлебникова использовались такие методы, как биографический, герменевтический, сравнительно-сопоставительный, интертекстуальный, метод описательной поэтики.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ
Пространство-время
Категории «пространство» и «время» в различных (антитетических и синтетических) отношениях пронизывают все наследие Хлебникова, являются важнейшими в его творчестве. Г. О. Винокур, размышляя над общей формулой, которая могла бы выразить роль Хлебникова и его творчества в литературном процессе, писал, что «такой формулой может послужить банальное выражение “вне времени и пространства”, <…> взятое в своем точном и буквальном значении» [5, с. 207–208]. Исследователь отмечал, что мотив своеобразного преодоления «времени» и «пространства» был основной поэтической мыслью Будетлянина [5, с. 207].
По мнению Н. В. Перцова, для некоторых произведений Хлебникова характерен синтез «пространства» и «времени» [16, с. 174]. На примере стихотворения «Ночь, полная созвездий» исследователь указывает на то, что образы «пространства» и «времени» в поэтике Хлебникова могут интерпретироваться друг через друга [16, с. 174, 177]. Чем обусловлена важность данных категорий для поэта?
Будучи по своей натуре путешественником, Хлебников постоянно испытывал «голод пространства» [9, с. 530–531; 20, с. 88, 176, 238, 266], он жаждал новых географических впечатлений, и его тяга к странствиям, несмотря на постоянные финансовые трудности, была неистребима [20, с. 191]. Поэт не имел постоянного жилья, был своего рода вагабундом, в разные периоды времени жил в Астрахани, Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Харькове, Баку, Персии и других местах [15, с. 445]. Он стремился к постижению мира, данного в различных «пространствах». При этом в творчестве Хлебникова в первую очередь представлена категория «время».
Отправной точкой для поэтического и научного освоения данного понятия в биографии автора служит поражение России в Русско-японской войне (1904–1905 гг.). Сам поэт свидетельствует, что дал клятву искать законы «времени» для оправдания смертей на следующий день после Цусимского сражения [9, с. 530, 533; 20, с. 31; 27, с. 315], однако В. П. Григорьев, указывая на ошибку памяти Хлебникова, пишет о том, что явным катализатором данного обещания стало известие о потоплении броненосца «Петропавловск», которое произошло 31 марта 1904 г. [9, с. 533]. С этого периода Хлебников стремится «поймать войну в мышеловку» [20, с. 143], то есть свести ее на нет, научившись предсказывать грядущие события. Иносказательно поэт пишет об этом в заметке, созданной в период между 1904 и 1907 гг.: «Знание будущего в том отношении расширяет права свободы воли, что знающий когда наступит на земле прилив, сумеет отойти от него» [27, с. 377]. Поэтически же данная мысль ярко иллюстрируется начальными строками стихотворения, написанного 28 января 1922 г.: «Если я обращу человечество в часы / И покажу, как стрелка столетия движется, / Неужели из нашей времен полосы / Не вылетит война, как ненужная ижица?» [23, с. 363]. Именно с этой целью Хлебников нарекает себя «Будетлянином» (тем, кто будет, кто сможет предсказать характер грядущих событий). Поэт устремляется в будущее, которое позже в статье «Свояси» назовет родиной творчества [22, с. 8].
Категории «пространство» и «время» у Хлебникова включены в контекст нового естествознания. Поэт неоднократно говорил об их связи, осознавал себя пионером в области концептуального совмещения «пространства» и «времени» в единый континуум. В этом аспекте наиболее известна автоэпитафия «Пусть на могильной плите прочтут…», в которой Хлебников пишет: «…Он связал время с пространством…» [27, с. 7]. В собрании сочинений под редакцией Р. В. Дуганова и Е. Р. Арензона данный текст условно датируется 1904 г., т. е. за год до того, как А. Пуанкаре математически обосновал единство «пространства» и «времени», и за четыре года до того, как вышла программная работа «Raum und Zeit» Г. Минковского (русскоязычный перевод вовсе был опубликован только в 1910 г.) [27, с. 523]. Если опираться на обозначенную дату, то можно сделать вывод о том, что Хлебников предвосхитил ввод понятия «пространство-время» в научный дискурс.
Сам Будетлянин в одной из заметок, написанной между 1911 и 1914 гг. [27, с. 379–382; 28], указывал и на более раннее время возникновения у него идеи единства данных категорий: «Минковский и некоторые другие (я, начиная с 1903 года) думали объединить время <с пространством>, понимая его как четвертое измерение…» [27, с. 382]. Приведенные даты могут вызывать сомнения (и этому посвящена отдельная статья А. Щетникова [28]), но для нашего исследования важна не фактологическая точность (действительно ли Хлебников «объединил» «пространство» и «время» раньше всех или нет), а художественные особенности включенности естественно-научных взглядов и философских размышлений в контекст авторской поэтики.
Относительно концепции «пространство-время» примечательна антропологическая позиция Хлебникова: «…Он считал, что пространство и время соединяются в человеке» [14, с. 168], в человеке, которого он характеризовал как местовременную точку [27, с. 385]. В статье «О времени» (<1907–1908>) поэт назвал «пространство» и «время» двумя братьями-близнецами [27, с. 16], тем самым образно обозначив «кровные» узы, связывающие данные категории. Кроме того, Хлебников выразил мысль о том, что эти «братья» служат своеобразными стражниками, которые охраняют «вход к Бытию» [27, с. 16], т. е. непременно стоят на пути к осознанию самого себя в окружающем мире.
Обосновывая интерес к темпоральной субстанции, Хлебников неоднократно писал о том, что «пространство» является более когнитивно освоенным понятием, нежели «время» [27, с. 248, 528]. Ярким подтверждением данного тезиса, в котором также указывается личная значимость, служат строки: «Лишь я, лишь я заметил то, что время <–> / Доныне крепостной пространства» (цит. по: [9, с. 534]).
Своей цели, постижения законов «времени», Хлебников достигает в Баку в 1920 г. [9, с. 534]. 14 марта 1922 г. в письме к П. В. Митуричу поэт описывает свое открытие так: «…Во времени происходит отрицательный сдвиг через 3n дней и положительный через 2n дней; события, дух времени становится обратным через 3n дней и усиливает свои числа через 2n» [27, с. 489].
Хотя для Хлебникова категория топоса была менее интересной в силу её научной «освоенности» («Если не каждый самый мощный поезд сдвинет с места все написанное человечеством о пространстве, то все написанное о времени легко подымет каждый голубь в письме, спрятанном под крылом» [27, с. 248]), многие образы «времени» в его творчестве являются по своей сути пространственными [11, с. 367]. М. Бемиг выделила в поэтике «будетлянина» два вида «времени»: «1) Время как волна, колебание или циклическое повторение событий <…> 2) Время как своего рода новое, неведомое пространство» [4]. Вероятно, можно говорить и о третьей, синтетической разновидности, на которую указывает, например, цитата: «…Время <–> логарифм пространства» (цит. по [9, с. 534]). Первый из приведенных типов в основном связан с математическими расчетами и историософскими построениями Хлебникова, а второй нередко выступает в качестве художественного образа. Известна авторская интерпретация времени как своего рода «пространства», поля впереди и поля сзади [27, с. 491], шествуя по которому можно достичь и прошлого, и будущего. Характеризуя данный аспект, Д. Н. Замятин пишет: «…Само время подвергается у него [Хлебникова. – К. К.] интенсивному опространствлению» [11, с. 366]. Таким образом, в общетеоретическом плане подтверждается тезис Г. О. Винокура: «Для Хл<ебникова>, в сущности, вообще нет времени, вообще нет пространства. Все вечно, всегда, в своей глубокой сущности, неизменное и постоянное одно» [5, с. 207]. Данный взгляд отчасти соотносится с таким философским направлением, как «этернализм» (см. ниже).
Пространство
Степень важности и специфичность категории «пространство» в поэтике исследуемого автора, несмотря на ее «вторичность» относительно «времени», можно условно определить, опираясь на один любопытный биографический эпизод. Однажды Н. Коган, художница и поклонница творчества будетлянина, задала ему вопрос о том, «каждый ли поэт может написать по-настоящему хорошие стихи» [20, с. 191]. Хлебников ответил следующим образом: «Стихи <…> – это все равно, что путешествие, нужно быть там, где до сих пор еще никто не был» [20, с. 191]. Данное высказывание звучит достаточно по-футуристски, но вместе с тем выходит за рамки данной эстетики, поскольку самобытность поэтического языка – требование, которое бессознательно предъявляется читателем к каждому автору стихов.
Топос в текстах Хлебникова необычайно широк. Для создания художественного мира поэт нередко «обращался к древнеславянским, древневост [отчным. – К. К.] и среднеазиатским мифам» [15, с. 443], эклектически сочетал различные культуры («Индии, монголов, финнов, казаков…» [3, с. 125]). Он был сторонником ввода в литературу самых разнообразных этнографических реалий [3, с. 122–126].
В поэме «Хаджи-Тархан» (1913) Хлебников имплицитно помещает в стихотворные строки известную паремию, гласящую, что если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе: «Ах, вечный спор горы и Магомета, / Кто свят, кто чище и кто лучше» [24, с. 104]. В. П. Григорьев приводит список собственных имен и названий географических объектов, свидетельствующий о насыщенности произведения образами «пространства»: «Вот несколько имен из поэмы: гора Богдо, Магомет, Рим, Африка, Асирия, Египет, Прометей, игла Сумбеки, Ра (Волга у античных авторов), Ломоносов, море Ледовитое, море Хвалынское (т.е. Каспийское <…>), Волынский <…>, вещий Олег, Индия, Озирис…» [9, с. 532]. М. В. Ганин, исследуя геогностический мотив «пение гор» в творчестве поэта, отмечает, что в этом тексте задается «вектор на постижение горной стихии и упоминается конкретный природный объект [гора Богдо. – К. К.], являющийся источником “молчания”» [6, с. 217], то есть потенциального звука, «звенящей тишины». Хлебников, воплощая идею некоей безмятежности, пишет: «Гора молчит, лаская тишь» [24, с. 104]. «Ласкающее» отсутствие звуков создает особую атмосферу покоя, отгороженную от шумной и суетной среды: «Там только голубь сонный несся. / Отсель урок: ты сам слетишь, / Желая сдвинуть сон утеса. / Но звук печально-горловой, / Рождая ужас и покой, / Несется с каждою зарей / Как знак: здесь отдых, путник, стой!» [24, с. 104].
Географические образы в поэтике Хлебникова зачастую персонифицированы и нередко оригинально вписаны в текст как элементы композиции. Показательна четырехсловная поэтическая миниатюра, написанная предположительно в 1912 г.: «Очи Оки / Блещут вдали» [22, с. 271]. Художественно осмысленный топос действительности здесь органично помещен в «пространство» текста. В сущности, стихотворение направлено на передачу взгляда лирического героя на реку. В данном контексте слово «взгляд» стоит понимать одновременно в двух значениях: как зрительный акт и как ментальную установку. Эта идея аккумулируется в миниатюре и прямо (первое слово – «очи», орган зрения), и на уровне «заумного» каламбура (форма «Оки́» с опорой на теорию Хлебникова о внутреннем склонении слов [27, с. 33] вызывает ассоциативную связь со словом «око»). Следует также обратить внимание на то, что процесс зрительного восприятия децентрирован, т.е. акцент с него намеренно смещен. На переднем плане – образ блестящих «глаз» реки, т.е. игры воды и света. Герой присутствует в тексте имплицитно, выступает в качестве безликой призмы, через которую передается описанный пейзаж и относительно которой очи блещут на определенной дистанции (вдали). Вместе с тем, изображая «очи Оки», автор олицетворяет образ реки, наделяет водную стихию душой, зеркалом которой глаза как раз и являются.
«Пространство» текста оформлено предельно гармонично и со стороны метрики архитектурно выверено – это четкий двустопный дактиль с мужскими клаузулами. К тому же двустишие зарифмовано, хотя созвучие и достаточно слабое, ассонансное (Оки́ – вдали́). Возможно, стихотворение представляет собой результат творческого осмысления жанра хайку. Известно, что Хлебникова занимал минимализм японской поэтики; например, в сентябре 1912 г. он писал А. Е. Крученых о желании, чтобы на русскую землю пролились «японские законы прекрасной речи» [27, с. 432]. Любопытно, что общее количество букв в миниатюре (17) также отсылает к упомянутой поэтической форме: классическое хайку состоит из 17 слогов. Вряд ли автор намеренно подсчитывал символы, но в любом случае реминисценция восточной культуры, сообщаемая самой формой и содержанием произведения, имеет место, и, таким образом, геопоэтический охват миниатюры расширяется.
В 1918 г. Хлебников проездом посещает Нижний Новгород и с любовью к этому городу пишет следующие строки: «Нежный Нижний! – / Волгам нужный, / Каме и Оке, / Нежный Нижний / Виден вдалеке / Волгам и волку» [23, с. 35]. В данном фрагменте также наблюдается трансформация географических объектов в поэтические, однако на этот раз внутреннее склонение слов выведено эксплицитно. Название города окружено двумя диссонансными рифмами: нежный – Нижний – нужный. Благодаря подобной концентрации созвучных эпитетов автор поэтизирует название города, приписывая ему такие качества, как нежность и нужность. В данном контексте субъектами указанной «нужды» выступают персонифицированные образы рек. Причем река Волга, как художественный образ, поэтически умножается, что находит выражение в форме множественного числа. Здесь Хлебников использует прием гиперонимизации, т.е. распространяет название реки на ее притоки – Каму и Оку.
Появление «Камы» в тексте может показаться аномальным. Если Волга и Ока, действительно, омывают Нижний Новгород, то Кама находится в значительном удалении. Сославшись на выявленный выше прием гиперонимизации, можно оправдать использование Хлебниковым образа Камы тем, что вместе с Окой и Волгой она составляет единое целое, а потому Кама через упомянутые реки также достигает города как часть этого целого. Также вероятно, что это является оригинальной реализацией метонимии. Кама протекает далеко от Нижнего Новгорода, но близко к Казани, хотя и не омывает этот город. Известно, что Хлебников после Нижнего Новгорода как раз поехал в Казань, где не был с 1908 г. [20, с. 190–191]. Так как в поэтике и философии «будетлянина» первые звуки слова (в частности, согласные) служат носителями смысла [14, с. 180; 27, с. 154], то возможно предположить, что Ка-мой в стихотворении Хлебникова маркируется Ка-зань, которая в свою очередь посредством метонимического переноса отсылает к самому поэту. Впрочем, указание на авторское «Я» выводится и более просто: Волга протекает близ села Малые Дербеты (во времена поэта – Малодербетовский улус), места, где родился Хлебников. Таким образом, эксплицированный смысл анализируемых строк выглядит так: ‘Нижний Новгород, нужный мне, т. е. лирическому герою/Хлебникову’. Как и в предыдущем тексте, наблюдение происходит на определенной дистанции. Возможно, подобным отстранением Хлебников пытался придать личному поэтическому восприятию города характер объективности. Созерцателями Нижнего Новгорода выступают Волги и волк. Образ «Волг» уже рассмотрен выше – это сам поэт и, вероятно, художественное обозначение его пути по направлению к Казани. «Волк» же появляется как следствие фиксации поэтического родства похожих слов.
Время
Н. Н. Пунин обратил внимание на то, что Хлебников стал первым поэтом, который ввел в стихотворные формы категорию «время» как элемент «поэтического опыта» [19, с. 161]. «Время» – это центральная тема творческих, философских и научных сочинений Хлебникова. Будучи провозглашенным Королем Времени Велимиром Первым [20, с. 155–156], поэт предпринимает множество когнитивных попыток «освоения» данной субстанции.
В. П. Григорьев отметил, что «время и множество его коррелятов – важнейшие основы смысла в словотворчестве Хлебникова» [9, с. 539]. Действительно, категория «время» различным образом метафоризируется и осмысливается в творчестве поэта. Ярким примером пристального художественного внимания к указанной ключевой единице становится уже литературный дебют Хлебникова – стихотворение в прозе «Искушение грешника» (1908). В нем встречаются самые разнообразные воплощения обозначенной категории: «…Врематая избушка, и лицо старушонки в кичке вечности, и злой пес на цепи дней, с языком мысли, и тропа, по которой бегают сутки и на которой отпечатлелись следы дня, вечера и утра…» [26, с. 34], «И шествовала времяклювая цапля…» [26, с. 34], «…И сквозь топливый тростник плыл прошлоекрылый селезень к будущехохольной утке» [26, с. 34].
На примере этой небольшой выборки заметна склонность Хлебникова к наделению орнитологических образов семантикой «времени». В стихотворении того же 1908 г. «Там, где жили, свиристели» Хлебников создает запоминающийся образ стаи «легких времирей» [22, с. 109]. Традиционно «времирь» трактуется как соединение слов «время» и «снегирь» [7, с. 29], но также возможно интерпретировать данное слово в качестве «времени мира» или «мира времени». Разумеется, это расширительная версия прочтения, а не замена основного, так как явная связь с птицами в контексте стихотворения представлена эксплицитно. Тем не менее интерпретация органично вписывается в хлебниковскую концепцию «Время – мера мира» [27, с. 94].
Хлебников стремится преодолеть «время», покорить его, используя различные творческие методы. Помимо прочего, данное устремление реализуется на уровне архитектоники различных текстов. Приблизительно в 1912 г. создается «Перевертень» – стихотворение-палиндром, строки которого можно читать как с начала, так и с конца: «Кони, топот, инок. / Но не речь, а черен он» [22, с. 258]. Посредством формальной организации данного произведения, его фактуры – специального подбора слов таким образом, чтобы строки могли быть прочитаны и слева направо, и справа налево – Хлебников воплощает идею обратимости «времени», его возможности течь не только вперед, но и назад. Данный мотив получает развитие в драме «Мирско́нца» (1913), сюжет которой построен на том, что действующие лица в рамках пяти действий проходят путь от смерти и старости через зрелость и взрослость к молодости и детству. Однако в хроносе произведения, помимо указанной, представлена и другая особенность, выраженная В. П. Изотовым следующим образом: «Уже в первой части главный герой, убегая из собственного гроба, одновременно начинает движение по жизни (хронологически) назад, в то же время (линейно) совершает движение вперед – ведь бегства из гроба в той, прежней жизни не было» [12, с. 121]. Иначе говоря, в пьесе две временны́е линии будто бы накладываются друг на друга. Подобная композиция в художественной форме иллюстрирует зафиксированное в заметках поэта допущение о том, что одно «время» может быть помещено внутри другого [27, с. 377]. Стоит отметить, что мотив подобного преодоления темпоральной линейности после Хлебникова получит свое развитие в произведениях литературной фантастики: например, у Ф. С. Фицджеральда («Загадочная история Бенджамина Баттона, 1922) и братьев А. Н. и Б. Н. Стругацких («Понедельник начинается в субботу», 1964).
Из приведенного выше анализа следует, что в поэтике Хлебникова эстетически воплощается идея такого философского направления, как «этернализм». Его сущность состоит в представлении всех событий действительности как уже совершенных (существующих всегда и «одновременно»), но при этом воспринимаемых сознанием ввиду его ограниченности только в качестве последовательных эпизодов. Мнимость (или взаимозаменяемость) понятий «прошлое», «настоящее» и «будущее» в контексте личности Хлебникова и его творчества не раз отмечалась различными учеными [1, с. 138; 2; 3, с. 31–33; 9, с. 537–540; 10, с. 67; 13, с. 317; 16, с. 173–174; 18, с. 114–120; 21]. В заметках поэта его устремленность к «вневременности» описана в призыве «отказаться от понятий “прошлое”, “настоящее”, “будущее” как вредных для ясности мысли и считать настоящее время исходной точкой счета, прошлое – отрицательным рядом, будущее – рядом положительных чисел» [27, с. 390]. Хлебников не раз изображает персонажей, для которых «нет застав во времени» [26, с. 113]. Это, к примеру, Ка из одноименной повести («…Ка ходит из снов в сны, пересекает время и достигает бронзы (бронзы времен). В столетиях располагается удобно, как в качалке» [26, с. 113]) и абстрактное существо А из «Досок Судьбы» («Назовем существом А то, которое к прошлым и будущим векам человечества относится как к пространству, и шагает по нашим столетиям как по мостовой» [1, с. 42]).
Известен поэтический фрагмент «Досок Судьбы», в котором присутствует неатрибутированная аллюзия к «Апокалипсису» Иоанна Богослова (имеются в виду стихи: «И Ангел <…> клялся <…>, что времени уже не будет». Откр., 10:5-6): «Мой разум точный до одной энной, / Как уголь сердца, я вложил в мертвого пророка вселенной, / Дыханием груди вселенной, / И понял вдруг: нет времени. / На крыльях поднят как орел, я видел сразу, что было и что будет, / <…> / И стало ясно мне / Что будет позже» [1, с. 169].
Мнимость «времени», идея его преодоления реализуется уже в ранних текстах поэта. Показательно небольшое стихотворение 1907 года: «Времяни́н я, / Время́нку настиг / И с ней поцелуйный / Создал я миг. / И вот я очнулся / И дальше лечу. / И в яр окунулся / И в глуби тону. / И крыльями слылий / Черпаю денину. / Из кладезя голубя / Черпаю водину» [22, с. 31]. Адресатом стихотворения является В. И. Дамперова [8], которой Хлебников был увлечен [20, с. 27-28]. Этим фактом объясняется то, что в первой редакции любовная тема была центральной [22, с. 388; 7], в то время как в представленной версии она отошла на второй план.
В произведении прослеживается четкая интертекстуальная связь с приведенным выше фрагментом из «Досок Судьбы», на что указывает единообразное представление субъектов поэтической речи – крылатые лирические герои путешествуют сквозь эпохи. В стихотворении «Времяни́н я» категория «время» приобретает сюжетно значимый характер: поэтическое «Я» буквально летит сквозь «время», чтобы встретиться с возлюбленной. Так как они оба являются время́нами, то результатом их союза является не пространственный образ касания губ, а темпоральный фрагмент поцелуйного мига. Взаимное чувство запечатлевается в вечности, становится ее маленькой (миг), но значимой частью. После встречи с возлюбленной лирический герой отправляется в дальнейший путь и окунается в яр, в глубинах которого тонет. С опорой на биографический контекст возможно интерпретировать «яр» не только как яму в обычном смысле слова, но и как «яростную стихию войны», в осмысление которой Хлебников погружается с головой (стремление найти оправдание смертям [8]). Лирический герой (сам поэт) становится времянином не для поиска времянки (это происходит попутно), а для исполнения своей миссии, именно поэтому после поцелуйного мига говорится: «И вот я очнулся, / И дальше лечу» [22, с. 31]
Небольшой по объему текст насыщен авторскими словами, большинство из которых расшифровывается интуитивно: времяни́н и время́нка – дворянин и дворянка «времени» соответственно [17, с. 126], денина́ – день [17, с. 146], водина́ – вода [17, с. 117]. Определенную трудность представляет словоформа «слылий», образованная от глагола «слыть». Тем не менее в контексте стихотворения и биографии поэта «крылья слылий» можно истолковать в качестве своеобразных крыльев «времени». Человек может слыть кем-то постольку, поскольку за ним (в определенном сообществе) закрепился определенный образ на основе его поведения в минувшем. Лирический герой «зачерпывает» день крыльями своих прошлых состояний, крыльями того, что уже было (встреча с Времянкой, поцелуйный миг, иные события, осмысленные в опыте). Субстанция «времени» (денина) становится своеобразным «пространством», водой, на что указывает ассоциативная связь с ней, выраженная и единством формы (соотносимым составом слов: ден-ин-а, вод-ин-а), и синтаксическим параллелизмом («Черпаю денину. <…> Черпаю водину» [22, с. 31], и рифмой (денину́ – водину́). В свою очередь образ голубя связывается с «глубью» (ср. названия «Голубиная книга» и «Глубинная книга»), через него поэт передает направленность на глубокое постижение мира и его законов.
В результате анализа приведенных текстов подтверждается тезис Н. Н. Пунина о том, что в творчестве Хлебникова воплощается собственно чувство «времени», что оно входит в область поэтического опыта. Исследуемая категория продуктивно обрабатывается в сочинениях Будетлянина как на уровне формы (словообразования, особенности композиции), так и на уровне содержания (тема преодоления «времени»).
ВЫВОДЫ
Рассмотренные на материале указанных в исследовании сочинений особенности воплощения категорий «пространство» и «время» как элементов поэтики Хлебникова резюмируются следующим образом: 1) «пространство» и «время» осмысливаются автором не только в художественных текстах, но и в сочинениях иных типов (статьях, заметках, письмах и др.); 2) теоретическое (философское и научное) изучение представленных понятий у поэта неотрывно связано с их воплощением в литературных произведениях; 3) категория «пространство» широко представлено в творчестве Хлебникова в виде различных географических объектов (как правило, персонифицированных), которые реализуются в текстах в качестве концептуальных геопоэтических образов; 4) категория «время» имеет первостепенное значение для Хлебникова, мыслится им как особое «пространство», воплощается в орнитологических образах, подвергается перманентному процессу метафоризации, может протекать нелинейно, служит как необходимая для «оправдания смертей» область научного исследования и поэтического восприятия; 5) «пространство» и «время» в поэтике Хлебникова представляют особый континуум, могут интерпретироваться друг через друга («время» – это «пространство» особого рода, «пространство» – это способ запечатления «времени» в конкретном объекте действительности: например, в образе «врематой избушки»), концептуально представлены поэтом как братья-близнецы, составляющие основу человеческого существования.
Перспективным направлением дальнейших исследований по данной теме может стать рассмотрение избранных категорий посредством обращения к методологии сравнительно-исторического литературоведения (сопоставление поэтики Хлебникова с творчеством других авторов), а также анализ образов «пространства» и «времени» в сочинениях Хлебникова с помощью их включения в более широкий культурологический контекст.
References
- Babkov V. V. Konteksty Dosok Sud’by [Destiny Board Contexts]. Moscow, Rubezh stoletij, 2000. 286 p.
- Babkov V. V. Zakony vremeni Velimira Khlebnikova. K vyhodu v svet Dosok Sud’by [Velimir Khlebnikov’s Laws of Time. To the Publication of the Boards of Destiny]. Chelovek, 2000, no 6. Available from: chronos.msu.ru/old/RREPORTS/babkov_zakony_vremeny.htm (accessed 3 November 2024).
- Baran H. Poetika russkoj literatury nachala XX veka [Poetics of Russian literature of the early XX century]. Moscow, Izdatel’skaya gruppa Progress, Univers Publ., 1993. 368 p.
- Byomig M. Vremya v prostranstve: Khlebnikov i «filosofiya giperprostranstva» [Time in Space: Khlebnikov and the «Philosophy of Hyperspace»]. Vestnik Obshchestva Velimira Khlebnikova I, 1996, pp. 179–194. Available from: https://www.ka2.ru/nauka/bemig_1.html (accessed 3 November 2024).
- Vinokur G. O. Khlebnikov <Vne vremeni i prostranstva> [Khlebnikov <Beyond Time and Space >]. Mir Velimira Khlebnikova: Stat’i. Issledovaniya (1911-1998), 2000, pp. 206–210.
- Ganin M. V. «Penie gor» v poetike «pozdnego» V. Khlebnikova: geognosticheskij kod v avtokommunikativnoj modeli [«Singing of the Mountains» in the Poetics of «Late» V. Khlebnikov: Geognostic Code in the Auto-Communicative Model]. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Literaturovedenie. Zhurnalistika, 2020, Vol. 25, no 2. pp. 214–225.
- Ganin M. V. Dva «Poeticheskih mikrokosma» rannego V. Khlebnikova: paradoksy transformacii modeli «Prostranstvo-vremya» [Two «Poetic Microcosms» of Early V. Khlebnikov: Paradoxes of the Transformation of the Space-Time Model]. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Literaturovedenie, zhurnalistika, no 4, 2010, pp. 23–32.
- Giniyatullin A. M. Biograficheskij kod v stihotvorenii Velimira Khlebnikova «Vremyanin ya…» [Biographical code in Velimir Khlebnikov’s poem «Vremeni I…»]. Nauka v megapolise Science in a Megapolis, 2024, no 2 (58). Available from: https://mgpu-media.ru/issues/issue-58/literaturovedenie-i-yazykoznanie/biograficheskij-kod-v-stikhotvorenii-velimira-khlebnikova-vremyanin-ya.html (accessed 6 November 2024).
- Grigor’ev V. P. Budetlyanin [Budetlanin]. Moscow, Yazyki russkoj kul’tury Publ., 2000. 816 p.
- Duganov R. V. Velimir Khlebnikov: Priroda tvorchestva [Velimir Khlebnikov: The Nature of Creativity]. Moscow, Sovetskij pisatel’ Publ, 1990. 352 p.
- Zamyatin D. N. Metageografiya Velimira Khlebnikova: prostranstvo, obraz, mif [Velimir Khlebnikov’s Metageography: Space, Image, Myth]. Geografiya iskusstva: rasshirenie gorizontov, 2019, pp. 365–375.
- Izotov V. P. Retroskripciya kak princip postroeniya teksta: «Mirskonca» V. Khlebnikova [Retroscription as a principle of text construction: «Mirskonets» by V. Khlebnikov]. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye i social’nye nauki, no 5, 2015, pp. 120–122.
- Kedrov K. A. Na druzheskoj noge… [On a Friendly Note…] Moscow, Ekologicheskaya palata Rossii, Biblio TV Publ., 2023. 328 p.
- Kedrov K. A. Poeticheskij kosmos [Poetic Cosmos]. Moscow: Sovetskij pisatel’ Publ., 1989. 480 p.
- Leksikon russkoj literatury 19th veka [Lexicon of Russian Literature of the 19th Century]. Moscow, Kul’tura Publ., 1996. XVIII, 491 [1] p.
- Percov N. V. «Noch’, polnaya sozvezdij…»: sintez prostranstva-vremeni u Khlebnikova [«A Night Full of Constellations…»: Khlebnikov’s Synthesis of Space-Time]. Philologica, 2002, vol. 7, no 17–18, pp. 173–182.
- Percova N. N. Slovar’ neologizmov Velimira Khlebnikova [Velimir Khlebnikov’s Dictionary of Neologisms]. Moscow, Vien, Hansen-Lіove Publ., 1995. 557 p.
- Podoroga Yu. V. Preodolenie vremeni u Khlebnikova i Filonova. K analizu «avangardnogo soznaniya» [Overcoming Time in Khlebnikov and Filonov. Towards the Analysis of «Avant-garde Consciousness»]. Filosofskij zhurnal, no 35, 2021, pp. 111–130.
- Punin N. N. <Khlebnikov i gosudarstvo vremeni> [<Khlebnikov and the State of Time>]. Mir Velimira Khlebnikova: Stat’i. Issledovaniya (1911–1998), 2000, pp. 159–174.
- Starkina S. V. Velimir Khlebnikov [Velimir Khlebnikov]. Moscow: Molodaya gvardiya Publ., 2007. 339 p.
- Harujllin K. Prostranstvo, vremya, bessmertie v tvorchestve Velimira Khlebnikova [Space, Time, Immortality in the Works of Velimir Khlebnikov]. Deti Ra, no 9, 2019. Available from: https://magazines.gorky.media/ra/2019/9/prostranstvo-vremya-bessmertie-v-tvorchestve-velimira-hlebnikova.html?ysclid=m8hpmfpsnc993237233 (accessed 3 November 2024).
- Khlebnikov V. V. Sobranie sochinenij: In 6 vol. Vol. 1. Literaturnaya avtobiografiya. Stihotvoreniya 1904–1916 [Collected Works: In 6 vol. Vol. 1. Literary Autobiography. Poems 1904–1916]. Moscow, Akademicheskij proekt Publ., 2020. 527 p.
- Khlebnikov V. V. Sobranie sochinenij: In 6 t. Vol. 2. Stihotvoreniya 1917–1922 [Collected Works: In 6 vol. Vol. 2. Poems 1917–1922]. Moscow, Akademicheskij proekt Publ., 2020. 591 p.
- Khlebnikov V. V. Sobranie sochinenij: In 6 t. Vol. 3. Poemy 1905–1922 [Collected Works: In 6 vol. Vol. 3. Poems 1905–1922]. Moscow, Akademicheskij proekt Publ., 2020. 459 p.
- Khlebnikov V. V. Sobranie sochinenij: In 6 t. Vol. 4. Dramaticheskie poemy. Dramy. Sceny. 1904–1922 [Collected Works: In 6 vol. Vol. 4. Dramatic poems. Dramas. Scenes. 1904–1922]. Moscow, Akademicheskij proekt Publ., 2020. 367 p.
- Khlebnikov V. V. Sobranie sochinenij: In 6 t. Vol. 5. Stihotvoreniya v proze. Rasskazy, povesti, ocherki. Sverhpovesti. 1904–1922 [Collected Works: In 6 vol. Vol. 5. Poems in prose. Stories, novels, essays. Superstories. 1904–1922]. Moscow, Akademicheskij proekt, 2020. 413p.
- Khlebnikov V. V. Sobranie sochinenij: In 6 vol. Vol. 6. Stat’i (nabroski). Uchenye trudy. Vozzvaniya. Vystupleniya. 1904–1922. Doski Sud’by. Mysli i zametki. Pis’ma i avtobiograficheskie materialy. 1897–1922 [Collected Works: In 6 vol. Vol. 6. Articles (sketches). Scholarly works. Proclamations. Speeches. 1904-1922. Boards of Destiny. Thoughts and notes. Letters and autobiographical materials. 1897–1922]. Moscow: Akademicheskij proekt; Triksta , 2020. 719 p.
- Shchetnikov A. K voprosu o datirovke nekotoryh rannih prozaicheskih sochinenij Velimira Khlebnikova [On the Question of Dating Some Early Prose Works by Velimir Khlebnikov]. NLO, no 6, 2003. Available from: https://magazines.gorky.media/nlo/2003/6/k-voprosu-o-datirovke-nekotoryh-rannih-prozaicheskih-sochinenij-velimira-hlebnikova.html (accessed 3 November 2024).