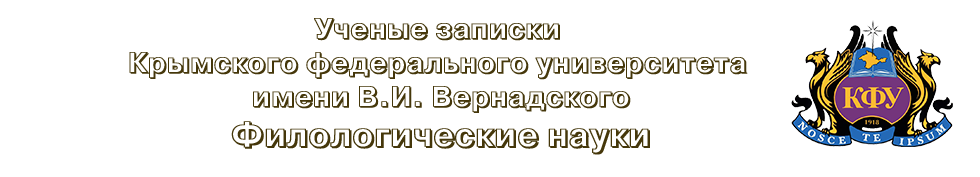THE PROBLEM OF MORAL VALUES IN THE STUDY OF MODERN GERMAN LITERATURE
JOURNAL: «Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philological sciences», Volume 11 (77), № 3, 2025
Publication text (PDF): Download
UDK: 821.112.2
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:
Kolpakova S. G., Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russian Federation
Yusupova A. Y., Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russian Federation
TYPE: Article
DOI: https://10.29039/2413-1679-2025-11-3-88-100
PAGES: from 88 to 100
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: Georg Oswald, moral values, morality and ethics in literature, modern German literature, cult of consumerism, fetishism, cargo cult.
ABSTRACT (ENGLISH): The article is devoted to the reflection of traditional moral values in German literature at the turn of 20th–21st centuries. The relevance of the chosen topic is conditioned by the acute crisis of the loss of traditional moral guidelines in the modern consumer society. The problem is investigated on the material of Georg M. Oswald’s novel “All That Counts”. Descriptive and hermeneutic methods were used in the research process. As a result of the analysis, the range of moral and social values through the prism of which the writer gives his assessment of society was identified. The article describes the structure of the society depicted in the novel, which is divided into two main groups – the financial elite and the rest of society, including the lower marginalized strata. The protagonist, who has not any distinctive individual characteristics, is a generalized portrait of a representative of modern society. The image of the central character was analyzed and his essential characteristics were highlighted. It is concluded that in modern society true love and friendship are often substituted by simulacra. Each of the signs of moral values has its own value in the consumer society, but they do not give life support. It is also concluded that the individual himself has completely lost his personality, becoming only a sign of a fashionable image. Criticism of the cult of consumerism, fetishism, cargo cult has been revealed, indicating that society has lost its spiritual moral foundations. Thus, the study showed that Georg M. Oswald gives a negative assessment of the German society of the turn of 20th–21st centuries, adhering to the position of traditional moral values.
ВВЕДЕНИЕ
Нравственные ценности являются одной из ключевых характеристик любого общества. Литературные произведения всегда были специфическим зеркалом, которое концентрированно отображало суть мира и индивидов. Поэтому актуальный интерес для изучения общественных изменений представляет анализ художественных произведений разных эпох, особенно близких нашему времени.
Морально-этическому вопросу в литературе в разных его аспектах посвящают работы как российские, так и зарубежные исследователи [1; 5; 10; 11]. Большую значимость они имеют в отношении современности, потому что «важно не само наличие нравственной проблематики в произведении, но то, что в ней острее всего пульсирует, что выдвинуто на первый план, как в ней отражается время» [1]. В последние годы немецкие исследователи анализируют в романах, драматургии, лирике, текстах песен, комиксах, детской и юношеской прозе проблематику глобализации, миграции и их последствий, экологии и изменения климата, проблему будущего [9; 11], в том числе, в перспективе дидактизации и использования литературы на занятиях по изучению иностранного языка. При этом в зарубежных литературоведческих исследованиях не уделяется достаточного внимания традиционным нравственным ценностям в немецкой литературе последних трех десятилетий. В противовес им культурологические исследования регулярно дают анализ ценностной системы немецкого общества, вплоть до настоящего времени. Обозначенный дисбаланс актуализирует обращение к нравственной проблематике в рамках настоящего исследования.
Цель исследования – анализ художественного отражения традиционных нравственных ценностей в немецкой культуре на рубеже XX–XXI вв. Материалом исследования послужил роман Георга М. Освальда «Всё, что считается» [7].
В данной работе использовались описательный и герменевтический методы, последний, по емкой характеристике Б. Я. Мисонжникова, «предполагает, помимо рациональных, совершаемых на сугубо дискурсивной основе идентификационных действий, также чувственные и психоэстетические подходы, уточняет мифологическое и выявляет мистическое содержание текста, аспекты его духовной тождественности, эвристичности и нравоучительности» [6, с. 53].
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ
Литературный процесс в Германии с 1990-х годов характеризуется демократизацией, упрощением синтаксиса и языка. Появляется новая немецкая литература, представленная молодым поколением авторов, поп-литература [2; 3; 8]. В круг литературных тем входит общество потребления с характерной для индивида моделью социального поведения и мышления. К теме примитивного европейского общества потребления обращается Георг М. Освальд в своем критическом романе «Всё, что считается».
Георг М. Освальд, адвокат, позднее руководитель и редактор в двух издательствах и, кроме прочего, писатель, родился в 1963 г. в Веслинге под Мюнхеном, изучал юриспруденцию в Мюнхенском университете. Как писатель Освальд дебютировал в 1995 г. Литературная известность пришла в 2000 г., после публикации романа «Все, что считается», который был переведен на многие языки, в том числе на русский.
Автор определяет жанр своего произведения как социальная сатира с элементами детектива [4]. Роман написан простым разговорным языком. Повествование ведется от имени центрального персонажа и звучит обыденно, не обременяя читателя отсылками к каким-либо авторитетам. В тексте отсутствует семантическая многослойность, игра с аллюзиями, множественность прочтений. Как пишет Е. В. Соколова, для современных немецких писателей «Мир как хаос» утратил (…) притягательность, на смену ему пришла картина мира убогого, мира, в котором (нет любви и потому) невыносимо скучно (…) Пародийный модус повествования замещается трагической серьезностью (…) Интертекстуальность утрачивает былое значение: переживания конкретного человека представляются уникальными, не требующими аналогий и аллюзий» [3, с. 115].
В романе автор поднимает проблему иллюзорных ценностей в мире глобального потребления и, как следствие, утраты человеческой идентичности. Писатель раскрывает проблему ценностей через отношение главного героя к жене, другу, коллеге, руководителю, родственникам жены и людям разных социальных сословий и рода деятельности, а также через отношение к деньгам и статусу.
Г. М. Освальд делит роман на две части «Внутри» и «Снаружи». Пребывание «снаружи» означает отсутствие перспектив финансового роста, вплоть до совершенно асоциального существования. Быть «внутри» значит принадлежать группе привилегированных, состоятельных, успешных, перспективных. Главный герой – Томас Шварц, от лица которого ведется повествование, – 35 лет от роду, представительный, элегантный, живущий с женой в полном комфорте. Шварц занимает должность заместителя руководителя отдела по работе с проблемными клиентами – теми, кто больше не может выплачивать взятые кредиты. В самой должности уже заключено основополагающее для произведения противопоставление финансово успешных и неудачливых. В тексте отсутствуют ретроспективы, позволяющие узнать историю героя до романного времени. Читатель не знает ничего о детстве и годах становления героя, его родителях и среде. Описываемые в романе черты героя не обладают выразительностью и индивидуальностью, что позволяет говорить об обобщающем значении этого персонажа.
Рассказчик щепетильно перечисляет всю техническую оснащенность семейного быта, называя марки техники, подчеркивающих состоятельность их владельцев. Предметы материального мира в романе имеют настолько большое значение, что в своей совокупности вырастают до масштабов идеологии, веры, духовных ценностей. Шварц неоднократно с самолюбованием описывает и свою внешность: статное сложение, красивое лицо, уверенные движения, отличные деловые костюмы. Место, где он работает, во всем наполнено атмосферой денег, от внешнего пространства квартала, до внутреннего оформления холлов: «Роскошные дворцы времен отцов-основателей рядом с футуристическими башнями из блестящей стали и тонированного стекла вокруг маленького ухоженного парка…» [7, с. 19], в оформлении холла банка «сочетаются каррарский мрамор, хромированные детали, травертин, зеркальные поверхности, стекло и тропические водные растения» [7, с. 20], в коридоре вывешены подлинники Мондриана, Кандинского и Миро, у кабинета ожидает секретарша «с чашечкой кофе на серебряном подносе» [7, с. 20].
Единственное, что не вполне соответствует его амбициям – это личный автомобиль – небольшой японский «Субару», который полностью удовлетворяет городские потребности маленькой семьи, но всего лишь потребности. Амбициозность Шварца оказывается ущемленной всякий раз, когда он сталкивается с недосягаемо более успешной семьей дяди и тети своей жены Марианны. Подвозя тетушку Оливию, слишком тактичную, чтобы даже в шутку сказать о тесноте автомобиля, Томас жалеет, что так и не приобрел «мерседес», и все из–за того, что ожидал повышения вместе со служебным БМВ.
Отношение к родственникам Марианны дано с точки зрения анализа их жизненных достижений и приобретений. Во второй части романа подробно описывается профессорский дом родственников Марианны, с перечислением всех тривиальных атрибутов роскоши: расположение в лесу на берегу озера, модный франкфуртский архитектор и французский дизайнер, стометровый бассейн на втором этаже, винные погреба, все пространства масштабные, начиненные самой современной электроникой с приставленным обслуживающим персоналом. Дядя Марианны, успешный профессор, челюстной хирург, ездит по всему миру для участия в конгрессах специалистов. В круг элиты романного общества входят профессора, писатели, интеллектуалы, промышленники. Четверо детей Оливии и ее даже неназванного по имени мужа музыкальны и успешны. В этом обществе царит дух преуспевания и благополучия. В беседах звучат тщеславные фразы о поступлении детей в престижные вузы, их выдающихся спортивных и математических успехах, обсуждение своих научных публикаций, во всем чувствуются «застарелые, сияющие лавры постоянного общественного успеха, который сопровождал этих людей всю жизнь» [7, с. 196]. Центральный герой постоянно мучительно сравнивает себя с этими людьми, страдает от того, что сравнение каждый раз не в его пользу: «Моя жизнь кажется мне убогой, и сам себе я тоже кажусь убогим. Как бы хотелось стать каким-нибудь профессором!» [7, с. 40].
Однако каково же это высокодуховное блестящее интеллигентное общество в действительности. Объемной картины рассказчик не дает, лишь добавляет очередной финансовый нюанс. Будучи в последний раз приглашенным на светское мероприятие к родственникам Марианны, Томас не хотел рассказывать о своем увольнении и сочинил, якобы продолжает работать в банке и заодно оказывает особые услуги – помогает состоятельным людям выводить их неучтенные деньги на счета в Австрии и Швейцарии. И если описание его настоящей работы наводило на гостей скуку, вызывало завуалированное презрение, то возможность вывести деньги за границу моментально сделала Шварца популярным в этом обществе: «За вечер я поговорил с двадцатью или тридцатью богатыми людьми, каждый из которых, по-своему стараясь соблюсти конфиденциальность, тем не менее, прямо дал понять, что я должен перевести его неучтенку в Австрию или Щвейцарию» [7, с. 199–200]. Оказывается, всем этим крупным деятелям науки и бизнеса есть, что скрывать от Управления финансов, говоря откровенно, они нарушают закон. Несмотря на этот ставший очевидным факт, в глазах Шварца с этого успешного общества не спадает налет недосягаемого совершенства. Только что несколько десятков людей призналось ему в незаконности нажитого ими состояния, но, тем не менее, Шварц чувствует себя униженным перед ними после того, как Марианна разоблачает его ложь. Показательно, что жену Томаса не беспокоят его сочиненные финансовые махинации, она просто считает его неспособным на такие «масштабы». Марианна – плоть от плоти коррумпированной, уважаемой «элиты».
По мнению рассказчика, неприязнь высокого общества к профессии Шварца объяснялась отсутствием в ней «духовного, такого, что служило бы благу человечества или было бы способно изменить мир к лучшему» [7, с. 38]. Подобным же образом это избранное общество относилось и к работе Марианны в сфере рекламы, где она хоть и должна была быть креативной, однако в области денег, а не высоких материй. Оценка звучит как минимум высокомерно, если не лицемерно, учитывая, помимо упомянутых подозрений в финансовой нечистоплотности, и то, что часть представителей общества не работают, то есть не служат вовсе ничьему благу, кроме своего собственного. Таким образом, выявляется подмена понятия духовности в среде элиты.
С досадой и завистью Шварц замечает, что этим уверенным в себе людям просто повезло, не согласен с их мнением, якобы «богатство является их природным правом, что они заслужили его благодаря своим выдающимся способностям» [7, с. 39] и считает, что «никто никогда ничего не заслужил, все только получают» [7, с. 39].
Именно «службе», «заслуженному», труду следует уделить отдельное внимание. Собственная честная работа не вызывала у героя того уважения, какое подобострастие и зависть внушало положение этой финансовой страты, вынужденной скрывать свои доходы от государства.
Такое пренебрежение к честному труду выражается не только в проигрышном сравнении главным героем себя с обществом родственников Марианны, но и при возвышающем сравнении со стоящими на экономической лестнице ниже. Шварц делит всех людей на подгруппы – этакий беглый социальный анализ, который герой проводит по пути на работу.
Первыми ему встречаются молодые люди лет шестнадцати-восемнадцати, дорого одетые, хотя нельзя сказать, что они из состоятельных семей, «у некоторых американские фирменные вещи спортивного стиля, да еще и модные прически. Это и есть те, кто смотрит MTV. Они верят в поп-культуру и готовы платить за сознание причастности к ней» [7, с. 14]. В романе озвучивается один из признаков гомогенизированного общества потребления: поп-культура, образы героев американских кинофильмов и сериалов. Для каждой страты одного большого общества потребления свои заветные символы: для одних – «тряпки», для других – виллы с мебелью бидермайер. Глядя на молодежь сверху вниз, Шварц саркастически умиляется их бесперспективным попыткам добиться общественного признания. Уже сейчас он убежден, что им «не удастся вырваться из замкнутого круга и подняться выше их сраной жизни в двухкомнатной халупе, за которую они постоянно упрекают своих родителей» [7, с. 14]. Тамас убежден, что молодые люди, учащиеся училища, не имеют шансов на успех. Причем герой отмечает, что озвучивать подобные крамольные истины о социальной несправедливости запрещено.
Следующая категория людей – это иностранцы, оккупирующие вход в Управление по делам иностранцев с целью «получить бумаги, деньги, легальный статус» [7, с. 15]. В их отношении Шварц также делает неутешительный прогноз, у них тоже не получится оказаться «внутри». Герой испытывает неприязнь к мигрантам, он не сомневается, что служащие Управления знают, как не допустить иностранцев внутрь социума. Так писатель визуализирует мысль, которую невозможно высказать вслух в государстве, декларирующем свою мультикультурность, – отсутствие прокламируемой толерантности коренного немецкого населения к мигрантам.
Далее Шварц спускается в метро. Чем глубже вниз, тем больше поводов для его отвращения: «когда я спускаюсь по загаженному эскалатору в толпе всякого сброда, меня мутит от зловонного дыхания, немытых волос и дебильных харь» [7, с. 15–16] (Здесь могла бы возникнуть ассоциация с «Адом» Данте, возможно, писатель даже имел ее в виду, однако далее выясняется, что последний «круг общества» находится не в глубинах метро, а у дверей банков). Степень грубости размышлений героя входит в резкий диссонанс с его идеальным внешним видом. Его внимание фиксирует «низенькую жирную тетку, от которой за версту несет приторно-сладковатым парфюмом» [7, с. 16] и которая забавно не дает возможности заглянуть в свою вчерашнюю газету. Затем его раздражение вызывает общение двух пожилых мужчин («два старых хрыча»). Один из мужчин зачитывает знакомому статью, из которой следует, что нескольким заключенным, имевшим многочисленные уголовные преступления, обеспечиваются дорогостоящие эстетические процедуры и культурно-спортивные и туристические поездки. Из чего приятель делает иронический вывод: «если человек достойно прожил свою жизнь, то он обыкновенный простофиля (…) Честный человек всегда остается в дураках» [7, с. 17]. Именно к таким простым честным труженикам Шварц и относится с презрением.
Следующая группа, которую главный герой даже не относит к людям – наркоманы, собирающиеся в банковском квартале. «Они смотрят звериными глазами – у них блестящие, неестественно расширенные зрачки. Никто не желает им ничего плохого, но сделать для них хоть что-нибудь просто невозможно… Они так и так уже не люди» [7, с. 19–20]. Впрочем, на взгляд Шварца, есть способы избавиться и от них.
По работе Шварц сталкивается с людьми, неспособными больше выплачивать кредит, так называемые «проблемные клиенты». Шварц знает, что за этим рабочим понятием срываются нервные срывы, самоубийства и убийства. Ежемесячно он получает сотни писем с просьбами войти в положение, отложить погашение долга и конфискацию имущества. В отличие от своей секретарши, принимающей истории должников близко к сердцу, Томас относится к ним прагматично, сводя историю их жизни к формуле: «если человеку нужна помощь, то это значит, что он ее не заслуживает» [7, с. 23]. Следует, однако, отметить, что такое отношение героя не означает врожденной черствости, первое время истории падений производили на него впечатление и Томас чувствовал себя «препротивно», так как в его профессиональные обязанности входит окончательно уничтожить человека, по меньшей мере, финансово. Однако герой также знает, что за финансовым падением часто следуют кровавые истории.
Таким образом, для Шварца существуют две большие группы: одна – более состоятельная, ее населяют удачливые и благополучные жители мира «внутри»; вторая – значительно более бедная, населенная как маргинальными слоями, так и добросовестными работягами, сотрудниками низшего звена, – все они «снаружи». Первой группе Шварц отчаянно завидует, жаждет закрепиться «внутри». Вторых он презирает.
Оказавшись после внезапного увольнения «снаружи» и болтаясь днем по городу, Шварцу бросаются в глаза инвалиды, «молодчики из ночлежки, бомжи, пьянчужки и психи» [7, с. 107], а также те, чей интеллект «не дотягивает до среднестатистического» и у кого «полностью отсутствует социальная адаптация». Себя же Шварц относит к категории людей, которым «не хватает какого-то гена или секретного свойства, что и делает их ни на что не годными» [7, с. 108]. Хоть Шварц и не отмечает в себе видимых физических или душевных «дефектов», он тоже оказался «обломком жизни». Своей внешностью он продолжает имитировать принадлежность к общественной элите. «Моя мимикрия – это и есть мой физический недостаток, и если вы считаете, что я могу вот так просто взять и переодеться во что попроще, то вы ничего не поняли» [7, с. 108]. Таким образом, Шварц сближается с высмеиваемыми им молодыми людьми из техникума, имитирующими своим внешним обликом достаток и благополучие, с одной стороны, и с людьми с ограниченными умственными или физическими возможностями с другой, и манифестирует одну из современных проблем части общества – брендовый фетишизм, карго–культ, имитация «престижного» уровня потребления, – приравнивая их к физической «дефективности».
Размышление-повествование Шварца о сущности своей работы заключается выводом, что он с коллегами отдела по работе с проблемными клиентами не совсем банкиры, а могильщики в своей отрасли. В их профессиональные задачи входит «наживаться на смерти других». А далее следует рассуждение, призванное реализовать цель Георга М. Освальда, изобразить современного человека, лишенного морали, совершающего жестокость ради удовольствия [4]. От размышлений о своей роли могильщика Шварцу еще больше начинает нравиться его работа. «Она похожа на спорт. Выдавливаешь из человека кровь до последней капли, а когда уже кажется, что он выжат как лимон, встряхиваешь его как следует и глядишь – наберется еще капля другая. (…) Кровь – это деньги. Или наоборот: деньги – это кровь» [7, с. 26].
Такие акты жестокости в романе показаны несколько раз. На очередной конфискации Шварц оскорбляет обанкротившихся людей, а уходя, «хохочет во все горло», когда сорвавшаяся женщина обзывает его, смеется над ее горем даже не оборачиваясь, и с издевкой добавляет, что теперь может подать на нее в суд за оскорбление.
Шварцу нравится испытывать чувство превосходства и власти. Находясь в баре с коллегой Бельманом, Шварц точно знает, как много здесь мелких кредиторов банка, ставших должниками ради костюмов, мобильных телефонов и даже напитков бара. Шварцу доставляет удовольствие «стоять среди них в баре, зная, что большинству из них можно моментально перекрыть кислород. И не делать этого просто потому, что рабочий день окончен» [7, с. 70].
Будучи уже «снаружи» Шварц однажды неожиданно захотел не просто купить в магазине продукты, а именно «увидеть, как умирает рыба» [7, с. 125]. Освальд демонстративно сталкивает фигуры главного героя и торговца за рыбным прилавком; образ молодого успешного бизнесмена, жаждущего зрелища убийства, и продавца, которому чуть больше сорока лет, по воле начальства вынужденного носить «дурацкую униформу». Несомненно, Шварц презирает его, как всех, не относящихся к «элите». Продавца мысль об убийстве рыбы расстраивает, возможно, не только или не столько из гуманистических соображений, сколько потому, что он не умеет это делать. Шварц наслаждается возможностью унизить человека, ему нравится беспомощная ненависть, которую он вызвал к себе в мужчине, пользуясь случаем, Шварц вызывает «шефа» магазина и вынуждает его извиняться перед собой за своего подчиненного. От всего содеянного герой приходит в хорошее настроение и начинает ораторствовать об отсутствии развитой сферы услуг в Германии. Совершенно неожиданно для себя Шварц обнаруживает возмущение людей вокруг, направленное на него самого: «начинается бунт ждущих в очереди плебеев (…) Мне советуют заткнуться, убираться (…)» [7, с. 129]. Герой в замешательстве вынужден ретироваться, спешит домой, по пути безвольно роняет пакет со злосчастной рыбой, несется домой «с надеждой, что никто не мчится за мной с целью вернуть карпа» [7, с. 129]. Жажда общественной значимости и высокого статуса потерпели фиаско, не помог и прекрасный костюм-тройка. И сколько бы герой ни называл окружающих его людей плебеями с целью самовозвышения, ему не удается избавиться от своего внутреннего духовного плебейства, своей зависимости от «статуса» и раболепства перед образом «элитарности».
Сцена с рыбой может также быть аллюзией на христианство. Рыба – древнейший символ христианства. Карпа традиционно готовили в сочельник на праздничный стол в качестве рыбы Христа. В таком случае смысл сцены приобретает значительно более глубокий характер – это еще и утрата веры, многие века являвшейся духовной опорой и ценностным ориентиром для европейского человека. Ситуация «секуляризованного христианства» в европейском обществе, в отсутствии иной достаточно сильной нравственной опоры, привело к смешению «этики и прагматики жизни» [8], о чем пишет Д.А.Чугунов.
Рассмотрим, как характеризуется герой в любовных ситуациях. У Шварца возникает желание причинять эмоциональную боль не только посторонним людям, но и своей жене. После тяжелого рабочего дня обоих супругов Томаса раздражает вид Марианны, и он нарочно старается задеть ее, спрашивая, что за «грязь» у нее под глазами, прекрасно зная, что это растекшаяся тушь (возможно, она плакала). «Задаю вопрос, получая удовольствие от озлобленности, звучащей в голосе» [7, с. 79]. Марианна тоже оказалась на пороге увольнения. Собственно, увольнение как таковое не удивляет героя – профессиональный мир представляется ему хищнической системой, перемалывающей человеческий материал: «Недолговечность – это часть той системы, которую мы себе избрали. (…) Люди нашего типа определенное время получают очень хорошую зарплату (…) А потом, когда они начинают чувствовать себя непотопляемыми, их заменяют другими, новыми, чуть более голодными, чуть более дешевыми, чуть больше отдаленными от идеи возвеличиться и получить право голоса» [7, с. 83]. Неожиданным стало, что увольнение случилось сейчас, и что первой оказалась Марианна, которая представлялась Томасу более «ловкой, умеющей приспособиться». Вечер перед официальным увольнением Марианны стал поворотным в сознании главного персонажа. Произошел раскол между его прошлой жизнью и будущей, и теперь он смотрит словно со стороны на атрибуты его прошлой жизни и даже на жену: «Нужно пойти к ней, успокоить. Но мне не хочется. (…) Здесь живет молодая бездетная пара с солидным доходом, у которой достаточно вкуса и денег, чтобы управлять ходом вещей по своему усмотрению. Но это уже не мы» [7, с. 82], – Марианна и Томас превратились в бессодержательный знак семьи.
Шварц давно чувствовал, что его брак по неизвестной причине находится под угрозой. Надо полагать, брак основывался только на совместных материальных целях и стремлениях, а с их утратой не оказалось духовной базы, способной сохранить отношения. Увольнение супругов сблизило их на один вечер. «Теплая атмосфера напоминает о том, что общечеловеческие отношения существуют. Союз двух проигравших, которые знают, что по крайней мере сегодня вечером никто не помешает их единству» [7, с. 100] Марианна и Томас мило совместно готовят ужин, атмосфера становится романтичной. Можно было бы подумать, что общая неудача сблизила супругов. Однако уже в постели они вновь погружаются в мелочную ссору, «наполненную уничижительной ненавистью» [7, с. 101], а на утро Марианна сообщает о решении пожить у тети. Шварц переполняется обидой. Попрощавшись на вокзале с женой и подозревая, что на самом деле это не временный отъезд, а конец барка, Шварц пытается найти в себе большие чувства, но ничего не испытывает. Вспоминая совместную жизнь, герой признается, что в ней не было ничего особенного, даже страданий, лишь несколько мелких ссор. И теперь, после потери работы, супругов больше ничто не связывает.
Периодически думая о Марианне, Шварц, тем не менее, не собирается ей звонить: «это в стиле наших взаимоотношений (…) – мы думаем друг о друге, но не разговариваем» [7, с. 123]. Такое бездействие в отношении жены характерно для героя: он думает, что нужно утешить ее, и не утешает; размышляет, что стоит послать цветы после ссоры, и не посылает. Шварц не стремится поддерживать отношения с женой, однако нельзя сказать, что она ему полностью безразлична. Он часто думает о Марианне, приведя домой проститутку, не может воспользоваться супружеской спальней, так как мешают мысли о жене. Шварцу было важно, что подумает о нем Марианна, она была одним из главных его «зеркал», фиксирующих образ его «я», подтверждающих его существование в том статусе, в котором герой желал себя видеть.
В «отношениях» с проституткой Сабиной Шварцу нравится чувство своего превосходства, то, что ее можно «заказать, как пиццу», однако одновременно его мучает мысль о материальной стоимости ее «чувств», во сколько обошлись ее любовь и внимание, оплаченные его новыми товарищами-аферистами.
В главном герое прослеживаются мазохистские черты в сублимированных любовных действиях. С самоуничижением связан пьяный флирт с сотрудницей отдела кадров, которая была старше Томаса на пятнадцать лет: «… мне было просто необходимо залезть под юбку этой старой кошелки. Мне хотелось сделать самому себе больно, чем больнее, тем лучше» [7, с. 88].
Дополняют характеристику героя его взаимоотношения с другом Маркусом и коллегой Бельманом. Маркус пишет сценарии, хотя не продал ни одного, и безуспешно пытается подработать журналистикой и не более успешно решать проблемы со своей женой и любовницами. Каждый раз, оказываясь в затруднительном положении, Маркус предлагает Томасу встретиться. По окончании каждой такой встречи Томас одалживает другу деньги, не рассчитывая, что они будут возвращены. И вот, когда в жизни главного героя тоже возникли проблемы – уход жены и увольнение – у Маркуса не нашлось для друга времени до тех пор, пока ему вновь не потребовались деньги. Примитивный образец искусственной дружбы ради денег.
Главный герой начинал работу в банке одновременно со своим коллегой Бельманом, но значительно быстрее продвинулся по карьерной лестнице, искренне считая себя более талантливым. Шварц привык относиться к Бельману, как стоящему на ступень ниже, и по своей привычке причинять ему боль в общении. При встрече с Бельманом спустя месяц после увольнения Шварца роли поменялись. Бельман бодро рассказывает о беременности жены (в то время как брак Шварца был бездетным), покупки крупной недвижимости (тогда как Шварц так и не выполнил желание Марианны переехать в более престижный район). Томасу настолько неприятны успехи бывшего коллеги, что при прощании он слишком сильно сжимает ему руку, чтобы причинить физическую боль, и представляет, как Бельман падает по ступенькам вниз и калечится. Сейчас идея превратить Бельмана в «кровавое месиво» кажется Шварцу способом достижения внутреннего равновесия.
Самое значимое место в жизни Шварца занимает работа, собственно, она составляет всю его жизнь и является важной составляющей характеристики персонажа. До увольнения вся жизнь Томаса проходила на работе, зачастую включая выходные дни, стресс стал его постоянным спутником. Регулярно, описывая негативные события в своей жизни, будь то ссоры с женой на пустом месте, непрерывный стресс, путь до работы, рассказчик Шварц обращается к читателю: «вам это известно», – приобщая читателя к своей жизни, подчеркивая ее принципиальную схожесть, неуникальность.
У Шварца выработалась патологическая зависимость от работы. Если он дома, возникают панические атаки, чувство того, что забыл нечто безотлагательное. Работа вызывает страх, бессонницу и постоянный стресс, при этом Томаса патологически влечет на работу, даже если это воскресенье.
По утрам на рабочем месте Томас играет в компьютерную игру «Виртуальная корпорация. Безжалостная борьба за место в эшелоне власти!». Мотив игры повторится в конце романа, в желании героя играть в казино. На работе играть в компьютерную игру обязаны все сотрудники по распоряжению руководства, «чтобы развивать в себе умение добиться поставленной цели» [7, с. 22]. Все это имеет садистский, издевательский оттенок. Совершенно не скрывается и даже открыто озвучивается, что организация требует от своих сотрудников очень много, в сущности, всю их жизнь. Игровые вопросы напоминают анкетирование при приеме на работу. Среди прочих есть вопрос «Готовы ли вы работать сверхурочно не только по будням, но и в выходные, не получая за это дополнительной платы?» [7, с. 21]. Томас согласен на все. Собственно игровые испытания и интриги не отличаются от его реальной жизни. Единственная разница в том, что в виртуальном мире Томас ежедневно проходит один уровень, а в реальности оказывается «удален» своей руководительницей, как возможный конкурент.
К своей руководительнице фрау Румених Шварц относится с ненавистью и страхом. Она неожиданно заняла место исполняющего обязанности руководителя отдела, которое он считал уже почти своим. Шварц подозревает, что против него замышляется интрига. Румених жесткая, острая, ее смех сравнивается с отточенным ножом, обращенным против собеседника. Она мыслит категориями «эффективность» и «неэффективность» и первые полгода работы занималась увольнением неэффективных, на ее взгляд, сотрудников. Шварц чувствует, что начальница тонко мучает его. Герой многократно в разных вариациях повторяет, что испытывает страх перед ней, от этого допускает больше ошибок, которые начальница молча берет на заметку. И вот Румених вызывает Шварца в свой кабинет. Сам процесс вызова показательно церемонный, прием Шварца у Румених предваряют длительные телефонные переговоры их секретарш. Попав в кабинет начальницы, Шварц оказывается в комичной ситуации, так как предназначенный для него стул был на тридцать сантиметров ниже стула Румених, и ему приходилось, как ребенку, тянуть подбородок, чтобы голова оказалась выше стола. Возникают символические ассоциации: телефонные созвоны секретарш, как переговоры секундантов или дипломатов перед важным событием; опущенный стул, как визуализация разницы в должностных статусах. Именно в такой атмосфере, подчеркнуто указав Шварцу его подчиненное положение, Румених поручила задание, с которым не мог справиться ни один из сотрудников отдела в течение пары десятков лет, и которое считается безнадежным, чтобы в случае ошибки, обвинить его, «что именно из-за него банк потерял целый миллиард» [7, с. 33]. Так Освальд демонстрирует хищнические отношения в профессиональном мире. В день увольнения Шварца неожиданно помимо рутинных фраз Румених даже открыто признается, что здесь есть место только для одного из них. Один «могильщик» уничтожил другого в карьерной гонке.
Сразу же после увольнения герой безуспешно пытается внушить себе, что это «старт в новую жизнь». Мысли о Марианне мгновенно разрушают эту зыбкую попытку и множат сомнения в себе. Шварц не ждет поддержки от жены, подозревает, что Марианна будет смеяться над ним, думать, что он ни на что не годен. Томаса одолевает жалость к себе, он всхлипывает и шмыгает. Его дальнейшие рассуждения приводят к выводу, что жена не будет искренней в своих сочувствиях, потому что все люди – соперники, и потому что приятно ощущать превосходство перед неудачником. «Совсем не нужно быть садистом, чтобы радоваться поражению другого. Основополагающий принцип нашего бытия – отторжение ближнего» [7, с. 98], – еще одна диссонирующая аллюзия на христианство, проповедующее любовь к ближнему.
В отличие от традиционного обезличенного образа жизни, визуализированного в книге-символе «Сегодня великолепный день», которую дарят на работе всем сотрудникам, и, как оказывается, все читают ее с одинаковой скоростью (даже Марианна), в отношениях с аферистами, новыми знакомыми Томаса, его больше всего впечатляет непредсказуемость событий.
В ожидании собственного падения в Шварце мелькают нетипичные для него моменты сочувствия: дать необычно большие чаевые доставщику пиццы, таксисту, потерявшему когда-то работу по профессии. Неожиданно для себя Томас не оказывает коллеге поддержки в расследовании подозреваемых в крупном мошенничестве, с удивлением подозревает в себе сентиментальность.
С потерей работы Шварц начинает задаваться бытийственными вопросами о своей сущности, о том, чего же ему так не хватает в жизни, из-за чего он тоскует: «Из-за неудачной семейной жизни? Из-за работы? Из-за отсутствия душевной чистоты? (…) Что это такое? Есть у меня душа?» [7, с. 163].
Вопрос о своей сущности возникает в последней беседе с другом Маркусом. По его мнению, есть суммы денег, которые не стоят того, чтобы из-за них «потерять себя». Томас благодарит друга за идею возможности утраты себя.
Роман заканчивается бегством героя с проституткой и чемоданом денег аферистов в Монако, где он планирует прожить несколько дней как миллиардер, пока не исчезнут деньги, а вместе с ними и спутница Сабина. Возникающий здесь вновь мотив игры, игры в казино, отличается от компьютерной игры на работе, моделирующей рутинный, лишенный индивидуальности образ жизни. Игра в казино выглядит контрастно, неожиданно, непредсказуемо и «по-киношному» нереально. Однако главное, на что герой рассчитывает, после того как у него закончатся деньги, – что его никто не захочет знать, и тогда, вдалеке от своих знакомых ему будет легко «окончательно потерять то, чего … никогда и не было, – себя» [7, с. 221]. Главный герой на протяжении всего романного действия был лишь знаком, обложкой того, что считал значимым и существенным. Учитывая не индивидуальный, а обобщающий характер центрального персонажа, роман выражает критику и тревогу в отношении общества рубежа XX–XXI вв., представляющее собой не индивидуальности, а знаки того, что в действительности даже не имеет духовной ценности.
ВЫВОДЫ
Анализ показал, что Георг М. Освальд придерживается традиционной морально-нравственной системы ценностей и через ее призму дает характеристику современному ему обществу. Писатель очень буднично демонстрирует «ярмарку тщеславия» нового времени. Образ главного героя представляет собой диссонанс идеальной внешности и нравственного разложения. Это обобщенный портрет современника писателя, всеми силами стремящегося примкнуть к определенной социальной группе, имитирующего внешние признаки этой группы, презирающего всякого, кто находится снаружи группы «избранных», героя, склонного к проявлению психологического садизма, героя, страдающего от подозрений собственной неполноценности, не видящего смысла своего существования, человека, не имеющего духовной близости ни с одним живым существом – ни с женой, ни с другом, ни с коллегой. Его межличностные отношения лишь обозначены понятиями, за которыми скрывается равнодушие. В системе жизненных координат героя Освальда, как заявлено в названии, все имеет свою стоимость, и любовь, и дружба. Однако ни купленная дружба, ни оплаченная любовь не дают жизненной опоры. Все люди и предметы в жизни героя являются лишь бессодержательными знаками, имитирующими семью, любовь, дружбу, коллегиальные отношения, социальный статус. Попытка мимикрии главного героя приравнивается к физической или умственной неполноценности.
В романе выявляется проблема расщепленности социума. В группу «внутри» – круг избранных – входят профессора, писатели, интеллектуалы, промышленники. В группу «снаружи» – все остальные социальные слои: простые рабочие и торговцы, учащаяся молодежь и пенсионеры, доставщики пиццы и таксисты, мигранты и наркоманы. В тексте считывается идея об отсутствии в обществе декларируемой толерантности по отношению к иностранцам. Общество, описываемое в романе, утратило традиционные нравственные, духовные, в том числе христианские, ценности, заменив их новыми, в которых отсутствуют любовь и дружба, подмененные их знаками, простой честный труд презирается, а богатая, пусть и не всегда законная, жизнь фетишизируется. Пространство работы характеризуется хищнической конкуренцией, переработками, непрерывным стрессом и страхом. В романе обнаружена критика культа массового потребления, фетишизма, карго-культа, свидетельствующие об утрате обществом духовных нравственных основ, а личностью – своей индивидуальности.
Таким образом, исследованный роман демонстрирует, как погоня за внешним, как в прошлые века, так и сегодня, несмотря на изменившиеся атрибуты, не изменила своей сущности и ведет к утрате личной идентичности.
References
- Belaya, G. Nravstvennyi mir khudozhestvennogo proizvedeniya [The moral world of a work of fiction] Voprosy literatury, 1983, no. 4, pp. 19–52.
- Roganova I. S. Aktualizatsiya postmodernistskoi paradigmy v kul’ture kontsa XX veka (na primere nemetskoyazychnoi literatury): Dis. … doktora kul’turologi [Actualization of the postmodernist paradigm in the culture of the late 20th century (on the example of German–language literature). Thesis]: Moscow, 2010. 447 p.
- Sokolova E. V. Sovremennaya literatura Germanii: poiski vykhoda iz postmodernizma [Modern Literature of Germany: Search for a Way Out of Postmodernism] Postmodernizm: chto zhe dal’she? (Khudozhestvennaya literatura na rubezhe 20–21 vv.) [Postmodernism: What’s Next? (Art Literature at the Turn of the 20th and the 21st centuries)]: sb. nauchnykh trudov. Moscow, INION Publ., 2006, pp. 78–100.
- Kozhemyakin A. G. Georg Osval’d predstavil amoral’nogo tipa [Georg Oswald presented an immoral character] Kommersant» (Novosibirsk), 2003, no. 73, p. 3. Available from: https://www.kommersant.ru/doc/379178 (accessed 15 February 2025).
- Medvedeva T. S. Tsennosti nemetskogo naroda: istoriya i sovremennost’ [Values of the German People: History and Modernity] Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya «Istoriya i filologiya», 2010, no. 3, pp. 130–134. Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/tsennosti–nemetskogo–naroda–istoriya–i–sovremennost (accessed 15 February 2025).
- Misonzhnikov B. Ya. Metodologicheskie osnovy germenevtiki kak sredstva otozhdestvleniya teksta [Methodological foundations of hermeneutics as a means of text identification] Gumanitarnyi vektor. Seriya: Filologiya, vostokovedenie, 2012, no. 4, pp. 52–60. Available from: https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie–osnovy–germenevtiki–kak–sredstva–otozhdestvleniya–teksta/viewer (accessed 15 February 2025).
- Oswald G. Vse, chto schitaetsya: Roman [All that counts. Novel]. Petersburg. Amfora Publ. 2002. 221p.
- Chugunov D. A. Nemetskaya literatura 1990–kh godov: osnovnye tendentsii razvitiya: Dis. … dokt. filol. nauk [German literature of the 1990s: main trends of evolution. Thesis]. Voronezh, 2006. 421 p.
- Esselborn K. Globalisierung – Natur – Zukunft erzählen. Aktuelle deutschsprachige Literatur für die Internationale Germanistik und das Fach Deutsch als Fremdsprache. Informationen Deutsch als Fremdsprache. De Gruyter, 2017, Vol. 44, Issue 2–3, pp. 295–297.
- Nebrig A. Neue Studien zu Moral und Ethik der Literatur und ihrer Kritik: A Review Article. Orbis Litterarum, 2016, Vol. 71, Issue 6, pp. 549–560.
- Zemanek E. Unkalkulierbare Risiken und ihre Nebenwirkungen: Zu literarischen Reaktionen auf ökologische Transformationen und den Chancen des Ecocriticism. Literatur als Wagnis. Berlin, 2013, рр. 279–302. Available from: https://www.academia.edu/28931682/Unkalkulierbare_Risiken_und_ihre_Nebenwirkungen_Zu_literarischen_Reaktionen_auf_%C3%B6kologische_Transformationen_und_den_Chancen_des_Ecocriticism_In_Literatur_als_Wagnis_Literature_as_Risk_hg_v_Georg_Braungart_Monika_Schmitz_Emans_Christine_Lubkoll_u_a_Berlin_2013_S_279_302 (accessed 15 February 2025).