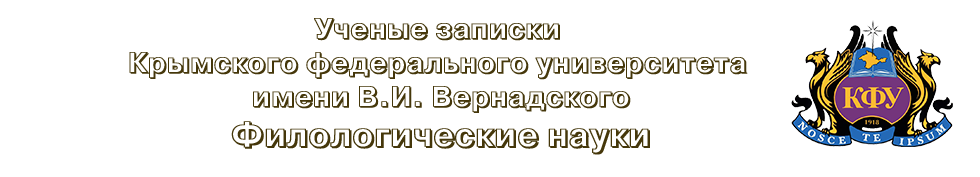THE RUSSIAN REVOLUTION OF A. N. TOLSTOY
РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ОСМЫСЛЕНИИ А. Н. ТОЛСТОГО
JOURNAL: «Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philological sciences», Volume 10 (76), № 4, 2024
Publication text (PDF): Download
UDK: 821.161.1:82-94(470)
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:
Baranskaya E. M., Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov, Simferopol, Russian Federation
TYPE: Article
DOI: 10.29039/2413-1679-2024-10-4-46-60
PAGES: from 46 to 60
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: A. N. Tolstoy, Russia, revolution, Russian statehood, diary, journalism, artistic creativity.
ABSTRACT (ENGLISH):
The article examines the evolution of A. N. Tolstoy’s perception of the Russian revolution at different stages of its development and in different forms of manifestation: the February Revolution, the October Days of 1917. Attention is focused on the revolutionary conceptuality of A. N. Tolstoy in his address to Russian history. The leading issues are A. N. Tolstoy’s historicism, the theme of Russian statehood and the nature of the Russian people. The starting point is the affirmation of the revolution as a key factor in A. N. Tolstoy’s existence, his creative impulse. The study uses a range of personally oriented sources: A. N. Tolstoy’s diary entries, in particular the Diaries of 1917–1936 and 1918–1923, epistolary writings and memoirs of contemporaries (I. G. Ehrenburg, V. Khodasevich, F. A. Stepun); as well as a wide range of the writer’s journalistic works of 1917–1920. (articles «First of March», «Twelfth of March», «At the Stake», «The Power of the Three-Inch», «Night Shift» (1917); «What We Need to Know», «Leviathan» (1918); «No!» (1919); «Our Questionnaire» (1920), etc.), works of fiction (stories «The Story of a Traveling Man» (1917), «Simple Soul» (1918), novellas «Mercy!» (1918), «The Adventures of Nevzorov, or Ibicus» (1924)). The specificity of the creative process of the writer of the year of the revolution and the first years after it is noted: the transformation of a laconic diary entry (emotionally and evaluatively subjective) into a work of fiction.
ВВЕДЕНИЕ
Российская действительность первой четверти ХХ в. представляла череду эпизодов единого драматичного действа – истории государства российского. А. Н. Толстой – очевидец и участник этого действа, приведшего писателя к эмиграции 1919 г., ре-эмиграции 1923 г., адаптации к новым реалиям российского общества и к участию в создании нового искусства Советского государства.
Во время революционного преобразования России 1917 г. А. Н. Толстой ощущал себя «человеком государственным» [4, с. 329]. Первопричину революции он видел «в характере русского народа» [6, c. 54]. Революционный разлом поставил Толстого перед экзистенциальным выбором: оказаться вне России или остаться с нею. Выбор Толстого известен: оставаться вместе с Россией и духовно, и географически. Но если сфера духовного единения не вызывала сомнений изначально, то географическая близость к Родине «конфликтовала» с семейными и другими обстоятельствами. Подобно многим современникам, Толстой остро ощущал раскол привычной жизни и чувствовал себя на перепутье, чем и продиктована характеристика Г. П. Струве: «Алексей Толстой только одним боком принадлежит зарубежной литературе <…>» [9, с. 82]. Зато Толстой принадлежал всецело литературе русской, что отмечали многие современники писателя, среди которых И. Г. Эренбург, М. А. Алданов, Ф. А. Степун. И в конце 1919 – начале 1920 г., в эмиграции, когда «Россия снова становится грозной и сильной», Толстой понимает, что «совершается грандиозное»: с 1917 г. до 1920 г. «кривая государственной мощи от нуля идет сильно вверх» [10, с. 286] (из письма А. Н. Толстого к А. С. Ященко, 16 фев. 1920 г., Париж).
А. Н. Толстой шел к осознанию русской истории, находясь в ее потоке. «Его концепция отечественной истории – <…> позиция сочувствия и сострадания своему народу» [6, c. 190], – так оценивала A. M. Крюкова историзм писателя. Вопрос историзма А. Н. Толстого, тема русской государственности и русской революции в его творчестве актуализированы в исследовательских работах как ХХ в. (А. В. Алпатов, В. И. Баранов, А. М. Крюкова, М. А. Чарный, В. Р. Щербина и др.), так и ХХI в. (Г. Н. Воронцова, А. М. Лобин, В. В. Чекушин и др.). События современной нам истории – истории отстаивания государственного суверенитета (в том числе и на полях сражений СВО) от навязываемого извне западноевропейского влияния, истории возрождения идеологического и ментально-генетического вектора «Великороссии», истории возрождения памяти народной – очевидно говорят в пользу актуальности нашего исследования. Тем более что революционная концептуальность А. Н. Толстого при обращении к русской истории (в частности, к эпохе Петра I) созвучна настоящему: «<…> эпоха Петра и наша эпоха перекликаются именно каким-то буйством сил, взрывами человеческой энергии и волей, направленной на освобождение от иноземной зависимости» [цит. по: 11, т. 7, с. 838].
Цель нашей статьи – пронаблюдать трансформацию функционально-оценочного восприятия русской революции А. Н. Толстым на материале корпуса Дневников, публицистических работ и художественной прозы 1917-х – 1920-х гг., что выводит нас к проблеме формирования вектора и фокусов мировоззренческих и творческий установок писателя.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ
«<…> Я стал патриотом» (А. Н. Толстой)
Обратившись в начале ХХ в. к описанию дворянских усадеб, жизни «эпигонов дворянского быта» [12, т. 1, с. 43], А. Н. Толстой с событиями первой (Февральской) русской революции вдруг осознал, что современность ускользает от него, что он не постигает «подлинной жизни страны и народа» [12, т. 1, с. 44] («Краткая автобиография»). Впрочем, в статье «Октябрьская революция дала мне все» (1933) Толстой подчеркивал, что еще Первая мировая война вывела его «из заколдованного круга» и он «увидел все исторические процессы (правда, тогда еще разобраться в них <…> не мог)» [12, т. 10, с. 184].
«Подлинную жизнь», которая раскрылась в трагедийности бытия, он прочувствовал на фронте, будучи корреспондентом газеты «Русские ведомости». В августе 1914 г. Толстой делился с отчимом, А. А. Бостромом: «Я работаю в “Русских ведомостях”, никогда не думал, что стану журналистом, буду писать патриотические статьи. <…> А в самом деле я стал патриотом. <…> Мы великий народ – будем же им» [10, с. 212]. «Лучший патриот в лучшем смысле этого слова» [цит. по: 4, с. 320], – характеризовал А. Н. Толстого М. А. Алданов. Писатель предчувствовал масштабные последствия мировой войны. Из письма А. А. Бострому 28 августа 1914 г.: «<…> Это мировая война, в которой погибнет наша цивилизация и настанет, наконец, прекрасный век» [10, с. 213]. А в статье «Трагический дух и ненавистники» Толстой указывал цель в войне русского народа, который в один день стал «крепким, решительным, чистым»: «сломить на полях Германии бесов железной культуры, гасителей духа человеческого» [цит. по: 4, с. 317]. В период Первой мировой «увидел русский народ» [12, т. 1, с. 44] («Краткая автобиография») и поверил, что только победа России в этой войне решит противоречия русского общества, иначе «мы погибли совсем, навсегда. Мы перестанем быть русскими, людьми, превратимся в удобрение. <…> В нас, в русских, будет погашен свет нового века» [12, т. 10, с. 17]. Победа России расценивалась писателем как условие сохранения государственной целостности страны [4, с. 320]. Но отношение к войне менялось, и в январе 1917 г. А. Толстой уже осознавал, что «время романтических боев прошло. <…> Война стала расчетом, фронт – буднями» [цит. по: 4, с. 320].
Безоговорочно приняв Февральскую революцию, Толстой погрузился в политическую жизнь: мартовские демонстрации в Москве 1917 г.; Государственное совещание 12–15 (25–28) августа 1917 г. в Большом театре; с конца марта 1917 г. – исполнение обязанностей комиссара по регистрации печати при московском правительстве (в составе Комиссариата были В. В. Каллаш, Г. А. Рачинский; председатель – В. Я. Брюсов); работа в Клубе московских писателей (вместе с И. А. Буниным, В. Я. Брюсовым, К. Д. Бальмонтом, А. Белым, Б. К. Зайцевым, В. Ф. Ходасевичем и др.). Выступления, публицистические статьи и художественные произведения весны и лета 1917 г. передают революционный настрой писателя: вера в особую миссию русского народа, в его возрождение – и духовное, и государственно-строительное. 1 марта 1917 г. для Толстого «наступал новый век», когда осуществлялись «новые формы жизни»: «<…> Ни царская ливрея, ни сюртук буржуа уже не на наши плечи»; хотя охватывал страх, «как бы не произошла неуместная жестокость, не пролилась кровь» [12, т. 10, с. 16] (ст. «Первого марта»). В первые же дни революции Толстым владеет надежда на создание демократической республики: «В народ, в его государственную мудрость поверили на слово» [12, т. 10, с. 17] (ст. «Двенадцатого марта»). И народ 12 марта 1917 г. оправдывал эти надежды: «Только серьезные, только взволнованные лица, на них резко отпечатлелись труд, мука и унижения долгих лет»; «не злобу, не ненависть, не месть» нес народ русский, «а жадное свое, умное сердце, горящее такой любовью <…>» [12, т. 10, с. 19].
Еще во 2-ой половине сентября 1917 г. А. Толстой «радостно и светло» смотрел на будущее России, которая, обобщив мировой опыт, «найдет свой какой-то в высшей степени оригинальный политический и общественный строй, очевидно демократический» [10, с. 270]. В письме к А. А. Бострому все негативное в движении революции Толстой объяснял «невежеством народа и гнетом войны»: «Нужно удивляться, как еще мало делается у нас злого и страшного. Теоретически <…> к 7-му месяцу революции Россия представляла бы собой груду дымящихся окровавленных развалин. А мы еще живем, бунты подавляются почти без крови, армия защищает города, партии борются словами, а не топором, фонари предназначены пока еще только для освещения» [10, с. 270]. Здесь же Толстой рассуждал о характере русского народа: «не кровожаден», «не буржуазен, т. е. собственность <…> не составляет для него фетиша», «в высшей степени приспособлен быть носителем идей <…> грядущей абсолютной мировой свободы» [10, с. 270]. И в «Рассказе проезжего человека» (1917) вернувшийся с фронта штабс-капитан, вопреки всеобщему отчаянию, усталости, верит в осуществление правды, божеской справедливости именно на русской земле, хоть и «через муки, унижение и грех» – это неизбежность исторического развития страны: «Не будет у нас сейчас ни порядка, ни покоя. Рождается новая Россия, невидимая, единая и белая, как Китеж выходит с озерного дна…» [12, т. 3, с. 15]. Отметим, что историк и литератор Ф. А. Степун, встречавшийся с А. Н. Толстым в Москве в дни работы Государственного совещания 12–15 (25–28) августа 1917 г., был поражен глубоким проникновением Толстого «в стихию революции, которой его социальное сознание, конечно, страшилось, но к которой он утробно влекся как к родной ему стихии озорства и буйства <…>»: Толстой увидел «пугачевскую, разинскую стихию революции» [8, c. 228].
«Ничего нельзя понять. Все спятили с ума…» (А. Н. Толстой)
С русской жизни 1917–1918 гг. вызывали далеко не однозначную реакцию писателя. И. Г. Эренбург, вспоминая писательские встречи в кафе «Бом» (на Тверской), передавал удрученное состояние духа обычно громкого и эпатажного А. Н. Толстого, который «мрачно попыхивал трубкой и говорил <…> (И. Эренбургу – Е. М.): “Пакость! Ничего нельзя понять. Все спятили с ума…”». И «в 1917–1918 годы он был растерян, огорчен, иногда подавлен: не мог понять, что происходит; сидел в писательском кафе «Бом»; ходил на дежурства домового комитета; всех ругал и всех жалел, а главное – недоумевал» [16, с. 154]. «<…> Господин редактор, пишите сами веселые рассказы, у меня больше нет тем» [13, с. 263], – характеризовал свое настроение Толстой в ст. «Власть трехдюймовых» (1917).
Дневниковые записи А. Н. Толстого 1917–1936 гг., фактографичные и детализированные, воссоздают картину времени и характеризуют положение и настроение Толстого. Из дневника:
28 октября 1917 г.: «С утра стреляют на улицах. Много народу, все помалкивают, выжидают. <…>
Уханье, треск автомобилей. Негромко щелкают выстрелы и вдруг рычит пулемет.
<…> Ночью в комнате швейцара собрался штаб охраны. Пили чай, играли в карты. Вдруг стук в окно, открыли форточку, голос: “Пролетел второй снаряд с Пресни”. Еще погодя стук и голос: “Наш дом обстреливают, загасите свет”. Тогда загасили свет и все пошли на улицу» [1, с. 351–352].
30 октября 1917 г: «С утра грохот пушечных выстрелов. <…>
У нашего дома убило юношу, в голову, наповал. В 9 часов вдруг погасло электричество. Весь дом вылез на лестницу со свечками. К полуночи можно было видеть женщин, в изнеможении прислонившихся к перилам. <…> Пули чмокаются в сырые дрова. <…>» [1, с. 352].
9 января 1918 г.: «Анархисты заняли дом Цетлиных[1].
Бомбы, вино, девки. <…>» [1, с. 357].
30 марта 1918 г.: «В 6 ч. у<тра> просыпаюсь от стрельбы. В продолжение 20 минут было 4 атаки, последняя – непрерывный вопль пулеметов, ружей, удары орудий – топот ног, крики голосов. Вбежала Наташа в одной рубашке, села на диване. Слушали. Затем все затихло. Был взят особняк Цетлина» [1, с. 358].
Ранее, 1 ноября 1917 г.: «Непрерывный грохот орудий. Шрапнели рвутся над церковным двором, осыпая и наш. На окнах строят баррикады. Некоторые спустились в подвалы <…>.
Говорят, что прислуга уже разделила квартиры для грабежа <…>.
Ночью выстрелы вывели Наташу из себя, она отчаянно бранила меня и няньку, легла на полу в ванной.
Дети устроены внизу. Мы с Наташей легли спать в ванной. Всю ночь грохот снарядов и бешеная перестрелка. <…>» [1, с. 353].
Последняя из приведенных записей нашла отражение и в воспоминаниях Н. В. Крандиевской: «После двух шалых пуль, царапнувших подоконник в столовой, окна нашей квартиры на Малой Молчановке были завешены коврами, забаррикадированы шкафами. Детские кроватки перенесли в ванную комнату, без окон…» [5, с. 106].
Даже в таких условиях Толстой продолжал воспринимать реальность как художник и мыслитель, что запечатлелось в стиле дневниковых записей.
«Пулемет кажется железной собакой, которая, сидя на цепи, заскрежетала зубами – широким ртом» [1, с. 351] (28 окт., 1917);
«Высоко над Арбатской разрыв, и белое плотное облачко мгновенно растерзал, унес ветер. <…> В звуки выстрелов вдруг влился мягкий колокольный звон. И на минуту все затихло. Точно весь город прислушался – звонят к вечерне» [1, с. 352] (29 окт., 1917);
«Таинственный, космический дух мировой войны перекинулся в Москву. Все, что происходит в эти дни, бесприютно и таинственно» [1, с. 353] (31 окт., 1917);
«Возвращались по Молчановке.
Солнце стояло в конце улицы. <…> Заметно, как уже на голых ветвях набухли почки. Я подумал: прошла война, прошла революция, вся Россия стала уже не та, а дерево распускается так же, как прошлой весной, как много весен назад. <…> Человек оторвался от природы. Забыл природные и вечные законы и выдумал законы свои и сейчас осуществляет их и гибнет <…>» [1, с. 358–359] (30 марта, 1918). Вернувшись из эмиграции, Толстой вернется к этой мысли во фрагменте «Продолжение к странице 31» [1, с. 387].
В январе 1918 г. Толстой, описывая пестроту, неупорядоченность жизни, странное смешение голода и войны с пьянством, танцами и ряжеными, приходит к философскому постижению «несокрушимой силы жизни, которая все поглотит и сделает все так, как надлежит быть» [1, с. 356].
А. Н. Толстой, оценивая дневники Н. В. Крандиевской, обрисовал собственное отношение к писательскому дневнику: «<…> Всякий дневник только тогда ценен, когда он не литературное произведение, а либо след (во времени) наблюдений за людьми, след эпохи, либо след развития своих мыслей, идей, вызванных восприятием эпохи. <…> Мне (т. е. всякому читающему дневник) интересны прежде всего наблюдения над людьми. Так как самое важное и самое интересное, что есть в природе, – это вскрытие человека в данной эпохе» [1, с. 258]. Иными словами, дневник для А. Толстого – документ эпохи, но творческий. Дневник А. Н. Толстого «всегда функционален: он изначально, по замыслу своему, творчески нацелен – в нем нет ничего “лишнего”, случайного, преходящего» [1, с. 260] (А. М. Крюкова).
Наибольший интерес для нас представляет Дневник 1917–1936 гг., который отличается изначальной творческой заданностью, о чем говорит уже деление дневника на две разнохарактерные части: 1917–1918 гг. и май 1923 г. – 1936 г.; срединные дневниковые записи за 1918–1923 гг. словно изъяты, представлены отдельным дневником. Обратим внимание на структуру и исполнение дневника – они представляют концепцию бытийного поведения писателя: от Октябрьской революции к ее итогу, началу новой жизни – и в российском государстве, и в судьбе Толстого. Вне России (и ментально, и географически) А. Н. Толстой себя не мыслит. В этом плане значима деталь: эпиграфом к эмигрантской повести «H. Н. Буров и его настроения» (1921) взяты строки: «О-хохо-хонюшки! / Скучно жить Афонющке / На чужой сторонушке (Народная песня)» [12, т. 3, с. 591] – некогда Толстой привел их в письме к матери. «Лучше настроение человека, насильно оторванного от родной земли, пожалуй, не выразишь» [16, с. 149], – резюмировал И. Г. Эренбург. Не случайно название второй части дневника («1923. Май») обращает к первому приезду писателя из эмиграции в Россию – вписано позднее (синим карандашом) [1, с. 388].
Яркие приметы моделирования, сотворенности дневника – хронологическая непоследовательность изображаемых событий, включение вырезок из газет («Елка футуристов» – «Вечер-буфф молодецкого разгула поэзо-творчества», состоявшийся 30 декабря 1917 г.; «В Смольном», 1918; «Приказ полковника Грекова» от 25 января 1919 г. по г. Ростов-на-Дону о гостиницах и меблированных комнатах и др.), вклейка страниц из записных книжек позднейших лет (1930-х). Открывается дневник воспоминаниями о лете 1917 г. («в Иванькове») и 1916 г.; авторская датировка появляется с 26 октября c реалиями времени и жизни автора: «Заседание домового комитета. Охрана дома» [1, с. 351]. Записи за октябрь–ноябрь 1917 г. выполнены в точном соответствиями с фактами истории, зафиксированными в современной писателю периодике, и толстовским принципом наблюдения. За событиями 1918 г. идут записи 1923 г. («Май»), 1927 г. («Лето»), а далее – возврат к «Декабрю 1916 г.». Завершается Дневник 1917–1936 гг. «<Из записей на разрозненных листах, вложенных автором в Дневник 1917–1936 гг.>».
Безусловно, изначально Толстой отталкивался от сиюминутной записи для себя. Однако лаконичная заявка дневниковой записи не единожды обрастала тканью художественного произведения, получала самостоятельную жизнь (например, в повести «Похождения Невзорова, или Ибикус» (1924), романах «Восемнадцатый год», «Хмурое утро»), становилась содержанием отдельного произведения (например, повесть «Милосердия!» (1918), рассказы «Простая душа» (1918), «В бреду» (1918), «Между небом и землей» (Очерки нравов литературной Москвы)» (1918), пьесы «Горький цвет» (1917), «Смерть Дантона» (1918)), получала характер живого публицистического отклика (например, «На костре», «Власть трехдюймовых», 1917).
Так, процесс создания «Милосердия!» (1918) наблюдал И. Эренбург. Повесть складывалась в то время, когда Толстой все чаще обращался к жизни простого обывателя – иногда добродушного, иногда с хитрецой, но не приспособленного ситуации разлома, потерянного во времени интеллигентного человека. «Милосердия!» – «первая попытка высмеять либеральных интеллигентов» [16, с. 154], как определял сам Толстой.
«Убийство вора Петьки на Ржевском» [1, с. 362] (дневниковая запись 1918 г.) включена в 1-ю редакцию рассказа «Простая душа» (впервые – цикл «Навождение. 1919», под заглавием «Катя», с датой: «Одесса. 1918»). В него же вошел эпизод со взятием «дома Гагарина» (дом кн. Г. Г. Гагарина находился на Тверском бульваре). Из дневника: «Пылающее окно, топот перебегающих солдат, боль<шевиков>, они бросаются из окон и падают под пулями. Им кричат – вылезай… Марш!..» [1, с. 362].
Повесть «Похождения Невзорова, или Ибикус» и вовсе складывалась на страницах Дневников 1917–1936 гг. и 1918–1923 гг. Запись «Символ смерти, или говорящий череп Ибикус» [1, с. 364] в разделе Дневника 1917–1936 гг. «1923 год. Май» формирует фундамент замысла повести. Приведенный выше в этом же разделе эпизод «Степь, дымы пожарищ» [1, с. 364] разработан в ней же. Сама сатирическая интонация Дневника 1918–1923 гг., как показывает А. Крюкова, последовательно выражена в повести «Похождения Невзорова, или Ибикус» [1, с. 397]. «Бегство из Одессы» изображено в повести именно в дневниковой подаче. А «Разговор вечером около котлов с вкрадчивым черным господином…» [1, с. 404] воспроизведен в повествовательной ткани повести.
Наконец, запись 1918 г., которая была преобразована в пьесе «Смерть Дантона» и получила отклик в «Простой душе», а впоследствии, как наблюдала А. М. Крюкова [1, с. 387], – рассказах «Голубые города» (1925), «Гадюка» (1927): «<…> Я понял, как в известные периоды революции даже возвышенные и мягкие люди могут быть жестокими и подписывать смертные приговоры близким людям, друзьям ( Робеспьер, Камилл). Когда революция кончается и наступает органическая необходимость творческой работы – то люди, еще не понявшие этого и продолжающие романтически кипеть, бурлить и мечтать о разрушении, становятся врагами [духа] отечества, [духа] страны, <1 нрзб> врагами. Их уничтожают без сожаления» [1, с. 359–360].
Материалы Дневника 1918–1923 гг. использованы в рассказах «На острове Халки» (1924), «Древний путь» (1927), в романе «Эмигранты» («Черное золото», 1931–1940). Таким образом, на страницах дневника создавался «образ времени, который потом растворится в творчестве, обеспечит историчность подхода к изображаемому материалу» [1, с. 347], – комментировала дневниковые записи писателя А. М. Крюкова и иллюстрировала процесс преобразования дневниковой записи в ходе творческого осмысления «в важнейший художественный образ, составную часть концепции произведения» [1, с. 260].
В это же время А. Н. Толстой сосредоточенно ищет аналогии современным событиям в русской истории – приходит к жанру исторической прозы [4, с. 327]. Основы и проблемы русской государственности пытается осознать через обращение к историческому прошлому страны [2, с. 62]: «Разгадки русского народа и русской государственности» [12, т. 1, с. 44] ищет в эпохе Петра I. С Октябрьской революции он возвращается к прозе и осуществляет «первый набросок “День Петра”» [12, т. 1, с. 44]. Над повестью работает в конце 1917 – начале 1918 гг. Тогда же пишет рассказы, предваряющие магистральную для него тему русской государственности, сфокусированную на личности Петра I – «Навождение» (1919) (в машинописи называлось «Лунный свет (Исторический рассказ)»; написано в конце 1917 г.) и «Первые террористы» (впервые – 1918 г.; название ассоциировано с перерабатываемой Толстым весной 1918 г. драмой Бюхнера «Смерть Дантона»).
«Революция – всегда огонь» (А. Н. Толстой)
С 1917 г. А. Н. Толстой движется к пониманию современности и вживанию в эпоху: «Я слишком близок к современным событиям, и душа моя слишком измучена» [13, с. 258] (ст. «На костре», 1917 г.). Природу этого вживания впоследствии писатель определит как «диалектическое»: «Я понимаю эпоху в ее движении, а не как неподвижный отрывок времени» («Октябрьская революция дала мне все», 1933) [12, т. 10, с. 184]. В центре осмысления, вернее, переосмысления – русская революция, дни которой в 1917 г. теперь представляются как «ураган крови и ужаса», возмездие всему русскому «за грех, за лень» [13, с. 259]. И теперь «первого марта 1917 года у нас произошла не революция, – утверждает Толстой, – а военный и голодный бунт, как реакция на трехлетнюю войну» [13, с. 258], поскольку «Революция – всегда огонь», который «видоизменяет качественно нацию. <…> Огонь революции еще не запылал», но когда это произойдет, Россия должна очиститься, русский народ – стать «народом чистым и преображенным» [13, с. 258–259]. Доминирующее у Толстого – «Я верю <…>»; «верю в чудо Учредительного собрания», которое есть «костер очистительный», результат его работы – «добро и милосердие для всех» [13, с. 259].
После Октябрьской революции Толстой продолжал верить в Великороссию, но опасался, что «Декларации прав народов России» разрушит древнюю целостность государства: «Финляндия, Украина, Донские казаки, Кубань объявляют себя федеративными республиками, спешно хватаются за оружие, за власть <…>»; «Великороссия становится перед лицом всей страны, оскалив зубы. Мир, с широкой до ушей улыбкой предложенный всему свету, отвергнут и союзниками, и врагами[2]. Еще несколько дней, и кости России затрещат» [13, с. 258]. И он готов вместе с русским народом принять и перенести все испытания времени «во имя грядущего, во имя преображения, во имя светлой, великой, чистой России» [13, с. 259]. Верит Толстой и в то, что народ вскоре свергнет власть «трехдюймовых», власть Советов (ст. «Власть трехдюймовых», 1917, 27 нояб.). Однако опора для веры все более истончается: «Посмеемся, но над чем? Над Россией – грешно. Над политикой – большевиками, временным правительством, Учредительным собранием, казаками, над террором и прочими странными превращениями – опасно, боюсь; когда-нибудь высмею, конечно, в романе или комедии, но пусть поостынут страсти» [13, с. 261].
А. Н. Толстой разочарован в Феврале, смущен Октябрем – растерян и неприкаян. «Он видел трусость обывателей, мелочность обид, смеялся над другими, а сам не знал, что ему делать» [16, с. 154], – вспоминал И. Г. Эренбург. Правда, растерянность весьма успешно вуалировалась: «Толстой умел не только вкусно радоваться, но и вкусно огорчаться», «смеяться и над своим смятением» [16, с. 277, 154]. Кстати, отсюда и толстовский каламбур, так переданный Эренбургом: «Как-то он показал мне медную дощечку на двери – “Гр. А. Н. Толстой” – и загрохотал: “Для одних граф, для других гражданин”, – смеялся он над собой» [16, с. 154]. А вот Дневник 1917–1936 гг. значительно более откровенен. 2-го ноября 1917 г. пришло известие о заключении мира. «Никто не выразил ни радости, ни отчаяния. Только <…> офицер-летчик сказал: “Да, все-таки родина, и вот нет ничего”» [1, с. 354]. 3-го ноября «Чувство тоски смертельной, гибели России, в развалинах Москвы, сдавлено горло, ломит виски» [1, с. 354]. 4-го ноября «ощущение предсмертной тоски», поскольку «Распадение тела государства физически болезненно для каждого <…>» [1, с. 354]. Наконец, «Мое духовное и физическое тело связано с телом государства; потрясения, испытываемые государством, испытываются мною» [1, с. 355].
В результате этих переживаний формировалось критическое отношение к революции, которой руководит «мечта о высшей справедливости», но она-то и есть «самая свирепая и кровавая вещь»: «Поражая людей, она разжигает их, как лихорадка. Благоразумие и добро нынешнего дня – становятся преступлением» [1, с. 354]. То есть, по мысли Толстого, происходило парадоксальное перерождение изначально справедливой идеи. В таких условиях у писателя вызревала мысль об эмиграции. По словам И. Г. Эренбурга, «Толстой говорил, что нужно уехать в Париж» [16, с. 279]. Дневник 1918–1923 гг. охватывает отъезд на Украину (в Одессу), в Париж (эмиграцию), пребывание за границей (в Париже, Берлине, Миздрое), возвращение в Россию 1 августа 1923 г. Лейтмотив Дневника 1918–1923 гг. – алогизм жизни вне Родины, который реализуется в открытой обреченности покидающих родной берег и сатирическом подтексте Дневника, контрастности поведения людей.
В начале апреля[3] 1919 г.: «Французы сдают Одессу, мы уезжаем сегодня.
Началось <…> отчаяние. <…> Серьезные лица офицеров. <…> Много простонародья. Сдержанно веселы. <…>
Зашли к Цетлиным, простились. Все уезжают. Чувство одиночества, покинутости. Не могли спать ночь. Обреченные на голод, на унижение. <…>
<…> Пароход “Кавказ”. <…> Все, как во сне. Неудобства почти не замечаются, состояние анестезии: слишком все неожиданно, хаотично, будущее страшно и непонятно. <…> На набережной при погрузке багажа – матрос с винтовкой на возу: “Дорогие мои, зачем бегите? Оставайтесь, всем хорошо будет”. Черная счастливая, широкая рожа» [1, с. 403–404].
Ощутима абсолютная сумятица сознания, потеря контроля над эмоциональным состоянием: горечь бессознательной тоски об утраченном, покидаемом родном крае и при этом: «Настроение погрома. Злоба и тупое равнодушие. Никто не сожалел о России. Никто не хотел продолжать борьбу. Некоторое даже восхищение большевиками» [1, с. 405]. В сентябре-октябре 1919 г. в письме И. А. Бунину из Парижа А. Н. Толстой вспоминал прожитое: «<…> Час был тяжелый. Но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы не скоро, уже на пароходе. Что было перетерплено – не рассказать. <…>» [10, с. 279–280].
Следует эмиграция. Писателя не отпускает Россия. появляются мысли о возвращении. Весной 1923 г. А. Н. Толстой приезжает в Москву, а 1 августа 1923 г. окончательно возвращается, но уже в Россию Советскую. Позднее в статье «О себе» (1929 г.) Толстой укажет точную дату, начиная с которой он «связал свое творчество с жизнью и судьбой Советской России» [11, т. 10, с. 192], – 1921 год, когда он расстался с благоустроенной Европой ради «страны, разоренной войной»; расстался, потому что увидел необычайный потенциал нового русского государства, «даль, манящую грандиозными возможностями»: «Эта даль была вся взъерошена гражданской войной, вся в надеждах, проектах. Это была питательная почва, куда мое “я” пустило корни» [11, т. 10, с. 192–193].
Психологически такое преображение А. Н. Толстого вполне объяснимо и даже закономерно. Во-первых, как мы видели, сама идея необходимости революционного, основанного на демократических началах переустройства страны не была ему чужда. Не случайно Бунин еще до эмиграции называл Толстого «полубольшевиком» [16, с. 279]. Во-вторых, сказывался эффект «взгляда со стороны». Исследователями давно замечено, что для объективного восприятия реальности художнику зачастую необходимо отдалится от изображаемого предмета, занять позицию «чужого, постороннего наблюдателя» [7, с. 319]. Пока Толстой находился в революционной России, его внимание неизбежно сосредоточивалось на частностях, его суждения подогревались сиюминутными эмоциями. Оказавшись за рубежом, он получил возможность формировать обобщенное представление о событиях эпического масштаба. Эти события возрождали его давнюю веру в отечественную государственность, а физическая отстраненность от этих событий заводила в тупик его творчество.
Еще в декабре 1917 г. в «Ночной смене» А. Н. Толстой сетовал на неразумие русского человека, вполне осознающего свою национальную идентичность и свое отношение к Отечеству лишь в кризисное для государства время:
«<…> Мы, русские люди, много лет <…> жили у себя в России, как на постоялом дворе, не на родине, а на перепутье. Не мило нам было ни отечество, ни обычай родной, ни прошлое. Даже слово – родина – признавалось всеми подгнившим, с душком <…> И все русское казалось нам чумазым, варварским, хамским, родина наша – рабой, слишком горды и свободолюбивы мы были, чтобы любить рабу.
<…> И вот теперь пришел страшный час встречи. <…> Отскочили. В ужасе отпрянули мы. Что это? Кто эта страшная и дикая, с одеждой в земле, с руками в крови и ранах, с искаженным мукой, безумным лицом! Я не знаю тебя! Я не звал тебя! Кто ты?
– Я твоя родина!» [13, с. 265].
А. Н. Толстой отдавал себе отчет в незнании истинной России, не лубочной, «в кокошнике и голубом сарафане», «доброй и милейшей», а «дикой бабищи в кровавых лохмотьях», «самой себя сейчас ненавидящей» [13, с. 265]. Нужно было делать выбор: отправляться в Швейцарию, «к сытым коровам, на зеленые лужайки», но с мучительным вопросом «Могу так, во веки веков, жить без роду, без племени, как собака, забытая на даче?» или «пойти и ей, России, родине, ненавидящей меня, <…> сказать, склонив голую, повинную шею перед ней: возьми жизнь мою и душу. Только это и осталось. Только одно…» [13, с. 265]. Толстой выбрал второе, ибо «покидая Родину, русские эмигранты несли с собой идею смерти вне родных пенатов» [3, с. 6]. Вспомним В. Ходасевича: «Судьба русских писателей – гибнуть. Гибель подстерегает их и на той чужбине, где мечтали они укрыться от гибели» [14, с. 224]. И уже тогда, в декабре 1917 г., у А. Толстого появляется мысль о новом поколении «строителей» новой и великой России.
В Одессе 1918 г., среди всеобщего безумия и бегства от разрухи и неизвестности грядущего, Толстой обращался мыслями не столько к Европе, куда отправлялся, сколько к России: «Я думаю о ней, потому что страдаю: я один из многих, опрокинутых непогодой, бушующей там, наверху, в городе живых» [13, с. 274]. Более того, писатель грезил о возрождении России в обновленном, величественном виде, хотя в мыслях писателя было сильно неприятие большевизма и результатов Брестского мира. Об этом в статье «То, что нам надо знать» (1918, 24 окт.): «Мне говорят – Россия погибла, распалась. Неудачная война и большевизм потрясли ее до основания; чужеземные войска клочком бумаги разрубили ее, как наковальню картонным мечом. Я этому не верю и не могу верить <…>» [13, с. 274–275].
В рассуждении Толстого, Россия жива, пока ее народ един, осознает себя, следует инстинкту «славянских племен к соединению в одну расу»: «Россия слагалась медленно, органически, соединяла племена под единый свод <…>» [13, с. 275]. Вывод, сделанный «из пяти годов пережитых страданий», убеждает в созидающей роли России: «Строить с новой, с более сильной, с истинной верой в грядущую культуру, строить потрясенное на вершине и незыблемое в основании единое наше государство <…>» «Свод рухнул – нужен новый свод <…>. И нельзя называть начало нового строительства развалом» [13, с. 275].
Эти размышления получат развитие спустя три дня в статье «Левиафан» (1918). Большевизм здесь именуется «болью и отчаянием России», которая должна была заставить «страшного» «Левиафана России», «триста лет сидевшего на цепях», прозреть, «укрепить в нем добро, волю и порядок»; именуется «болезнью», которая «застилала глаза народу, не давала ему осознать государственности, заставляла интеллигенцию лгать и бездействовать, вызывала непонятную тоску, больные мечты <…> о государстве без государства» [13, с. 277]. Большевизм – словно тяжелая необходимость для излечения государства: «<…> Россия распалась. Но это распадение было инстинктом больного. <…> Все нездоровое, шаткое, не оформленное сгорело и горит в этой борьбе» [13, с. 277]. А. Н. Толстой констатирует: «Теперь – ближайшая задача: со свежими оздоровленными силами начать очищение Великороссии. <…> Россия была большой, теперь должна стать великой» [13, с. 277].
Образ библейской мифологии использовал Т. Гоббс в одноименном трактате «Левиафан», представляя государство гигантским живым организмом. Легенда о Левиафане – «прожорливом, грузном, свирепом существе» – гласит: «Воспитывают его боги целыми столетиями, для обуздания насылают войны, чуму, революцию и пр. От этих встрясок он становится зрячим, организованным и прекрасным и начинает ревновать к богам» [13, с. 276]. Отметим: «Левиафан» А. Н. Толстого был опубликован в приложении к газете «Одесский листок» (1918, 27 окт.), имеющем заголовок: «Накануне Возрождения России», объединившем произведения И. А. Бунина, Л. П. Гроссмана, А. М. Де-Рибаса, Д. Н. Овсянико-Куликовского, В. А. Розенберга, В. Н. Твердохлебова, С. С. Юшкевича и др. [13, с. 465].
Непримиримость с большевизмом звучит в статье «Нет!», опубликованной уже в Париже (газ. «Общее дело», 1919, 20 авг.): «<…> Большевики смотрят на Россию <…> только как на бульон для приготовления коммунистической бациллы. Человек, личность, люди, счастье вот именно этих самых Иванов и Петров их не интересует и не тревожит» [13, с. 286]. «Нет!» содержит упоминания о драматичных крымских событиях конца 1917 – начала 1918 гг., известных автору по тенденциозным публикациям и пересказам: «О большевиках писали много, рассказывали об их зверствах, расстрелах, терроре, о днях бедноты, когда каждый (рабочий, бедняк или вор) мог войти в любой дом и взять все, что ему понравилось, описывали их тюрьмы, разорение крестьянства и ужасы вторжения в Крым китайских войск, когда красные разыскивали офицеров, убивали детей головой о стену и т. д., и т. д.» [13, с. 286].
Наконец, «Наша анкета» (газ. «Общее дело», 1920, 7 нояб.) представила ответы Толстого на вопросы редакции по случаю «трехлетия большевистского переворота». Силу большевизма писатель обозначил «в оправдании зла, порожденного войною». Большевики жертвуют «счастьем и интересами страны» во имя глобальной цели, которой является «мировая революция», при этом их власть лишена морального начала. Народ же «пошел за большевиками во имя лучшей жизни, то есть счастья, то есть добра. Народ поверил им, что ненавистью, разрушением и злом он достигнет веками жданного счастья» [13, с. 295–296]. В ноябре 1820 г. Толстой еще был уверен в скором крахе большевиков.
Как видим, в 1917-е – 1920-е гг. к большевизму для А. Н. Толстой относился враждебно. Но революция как таковая воспринималась им едва ли не врачующей государство силой, хоть и жуткой в своей сокрушительной непреклонности. Подобную точку зрения разделял и другие деятели культуры, в частности, В. Ходасевич, который в декабре 1917 г. писал, что случившаяся «лихорадка России на пользу» и если придется самим «потаскать навоз», это все-таки лучше, чем власть Рябушинских и Гучковых, превращающих страну в «фешенебельный бардак» [цит. по: 15]. Большевизм и революция в сознании Толстого – явления далеко не равнозначные. Революция, по Толстому, призвана была исцелить и укрепить Россию, а первые шаги советской власти заставляли думать, что большевики ведут Россию к развалу.
Однако ситуация менялась. Гражданская война клонилась к победе красных. Советская Россия быстро приобретала черты реального государства. В конце 1922 г. был создан Советский Союз, снова собравший воедино народы и территории, раздробленные революцией и междоусобицей. Как помним, весной 1923 г. Толстой решился посетить это новое (или обновленное) государство, а вскоре навсегда вернулся на Родину.
Это решение вызревало давно. По воспоминаниям И. Г. Эренбурга, в Берлине А. Н. Толстой уже знал, что вернется в Россию, и вот, как это объяснял мемуарист: «Две страсти жили в этом человеке: любовь к своему народу и любовь к искусству. Он скорее почувствовал, чем логически понял, что писать вне России не сможет. А любовь к народу была такова, что он рассорился не только со своими друзьями, но и со многим в самом себе – поверил в народ и поверил, что все должно идти так, как пошло» [15, с. 155].
ВЫВОДЫ
Русская революция – безусловный ключевой фактор на пути самопознания и бытийного самоопределения А. Н. Толстого. «Исторический оптимизм» (Г. Н. Воронцова) писателя обусловил искреннюю веру в грядущее могущество возрожденной России, очищенной духовно в «огне революции». Ориентир на идею и дух «Великороссии», глубокая ментальная русскость определили выбор писателя в пользу служения России на родной земле.
Взгляд Толстого на историческую миссию революции подвергся тяжелым испытаниям. Воодушевление, рожденное Февралем 1917 г., вера в облагораживающую функцию революционного перелома, в благотворное преображение государства, сменились в Октябре 1917 г. разочарованием, апатией и растерянностью, мрачным предчувствием гибели российской государственности. Первые шаги советской власти воспринимались писателем как сокрушительные удары по единству России, и это продиктовало решение об эмиграции.
В самые трудные моменты периода 1917-х – 1920-х гг. Толстой продолжал анализировать природу русской государственности и сформированные историей черты русского национального характера, и на основе этих раздумий сформировался корпус публицистических и художественных произведений. Импульсом для идей/тем/сюжетов, как правило, служили лаконичные дневниковые записи, которые затем получали развитие в публицистике и прозе. Таким образом, поденные записи, статьи и художественные произведения тесно переплетались, включая автобиографические факты в широкий социально-политический контекст.
Упомянутый корпус произведений 1917-х – 1920-х годов показывает, что даже в потоке, казалось бы, обескураживающих событий современности, Толстой сохранял убежденность в неизбежности возрождения русской государственности, существование которой, по его мысли, обусловлено духовным потенциалом народа. И уже первые предпосылки к этому возрождению заставили Толстого задуматься о возвращении на Родину: ход реальной истории начинал оправдывать теоретические построения и надежды писателя.
References
- N. Tolstoi: materialy i issledovaniya [A. N. Tolstoy: materials and research]. Moscow, Nauka Publ., 1982. 528 p.
- Baranskaya E. M. N. Tolstoi na puti k razgadke rossiiskoi gosudarstvennosti [A. N. Tolstoy on the way to the solution of the Russian statehood]. Antropotsentricheskaya paradigma literaturno-yazykovogo prostranstva: monografiya. Vol. 1. Sotsiokul’turnoe izmerenie filologicheskogo diskursa. Ed. by Grozyan N. F. Simferopol, Arial Publ., 2024, рp. 58–68.
- Baranskaya E. M. Vektor tvorcheskikh eksperimentov A. N. Tolstogo perioda re-emigratsii [Search vector of A. N. Tolstoy’s creative experiments in the period of re-emigration]. Uchenye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Filologicheskie nauki, 2023, vol. 9 (75), no. 41, р 3–15.
- Vorontsova G. N. «Skvoz’ pyl’ i dym»: pervyi roman o russkoi revolyutsii [«Through dust and smoke»: the first novel about the russian revolution]. Tolstoi A. N. Hozhdenie po mukam [Walking through the torment]. Moscow, Nauka Publ., 2012, р 303–399.
- Vospominaniya ob A. N. Tolstom: sbornik [Memories of A. N. Tolstoy: collection]. Moscow, Sovetskii pisatel’ Publ., 1982. 495 p.
- Kryukova A. M. N. Tolstoi i russkaya literatura: Tvorcheskaya individual’nost’ v literaturnom protsesse [A. N. Tolstoy and Russian Literature: Creative Individuality in the Literary Process]. Moscow, Nauka Publ., 1990. 257 p.
- Orehov V. V. Russkaja literatura i nacional’nyj imidzh (Imagologicheskij diskurs v russko-francuzskom literaturnom dialoge pervoj poloviny XIX v.) [Russian literature and national image (Imagological discourse in the Russian-French literary dialogue of the first half of the 19th century)]. Simferopol’, Antikva Publ., 2006. 608 p.
- Stepun F. A. Byvshee i nesbyvsheesya [Past and Unfulfilled]. 2nd Ed., Add. Saint Petersburg, Aleteiya, 2000. 644 p.
- Struve G. P. Russkaya literatura v izgnanii: Opyt istoricheskogo obzora zarubezhnoi literatury: Kratkii biograficheskii slovar’ russkogo Zarubezh’ya [Russian literature in exile: Experience of a historical review of foreign literature: A brief biographical dictionary of russian Abroad]. 3rd Ed., Rev. and Add. Paris: YMCA-Press Publ.; Moscow: Russkii Put’ Publ., 1996. 448 p.
- Tolstoi A. N. Perepiska A. N. Tolstogo: V 2-kh t. [Correspondence of A. N. Tolstoy: In 2 vols.]. Vol. 1. Editorial board V. Vatsuro, N. Gey, G. Elizavetina, and others. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1989. 351 p.
- Tolstoi A. N. Sobranie sochinenii: V 10-ti t. [Collected Works: In 10 vols.]. Moscow, Gosudarstvennoe izdatel’stvo khudozhestvennoi literatury Publ., 1958–1961.
- Tolstoi A. N. Sobranie sochinenii: V 10-ti t. [Collected Works: In 10 vols.]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1981–1986.
- Tolstoi A. N. Hozhdenie po mukam [Walking through the torment]. Moscow, Nauka Publ., 2012. 478 p.
- Khodasevich V. Literatura v izgnanii [Literature in exile]. Khodasevich V. Izbrannaya proza [Khodasevich V. Selected prose]. New York, Russica Publishers Inc., 1982, р 210–224.
- Chagin A. Puti i litsa: o russkoi literature XX veka [Paths and faces: about russian literature of the 20th century]. Moscow, IMLI RAN Publ., 2008. 593 p. Available from: https://libcat.ru/knigi/nauka-i-obrazovanie/sci-philology/237729-13-aleksej-chagin-puti-i-lica-o-russkoj-literature-xx-veka.html#text (accessed 11 October 2024).
- Erenburg I. G. Gody. Zhizn’. Vospominaniya: V 3-kh t. [People. Years. Life. Memories: In 3 vols.]. Vol. 1. Ed., Rev. and Add. Moscow, Sovetskii pisatel’ Publ., 1990. 640 p.
[1] Цетлин (Цейтлин) Михаил Осипович (1882, Москва – 1945, Нью-Йорк) – поэт, переводчик, редактор, меценат; знакомый А. Н. Толстого. По-видимому, историю Цетлина писатель, несмотря на кажущуюся беспристрастность заметки, принимал близко к сердцу, поскольку обращается к упомянутому эпизоду и в Дневнике 1918–1923 гг.
[2] Речь о Декрете о мире, принятом на Втором всероссийском съезде Советов 26 октября (8 ноября) 1917 г., содержавшем предложение к воюющим странам немедленно начать переговоры о подписании мира. Статья Толстого, написанная накануне выборов в Учредительное собрание (12 (25) ноября 1917 г.), опередила течение событий: 14 (27) ноября на предложение большевиков откликнулись Германия и дружественные ей государства; 20 ноября (3 декабря) в Брест-Литовске открылись мирные переговоры между Россией и центрально-европейскими державами [13, с. 454].
[3] В «Похождениях Невзорова…» А. Толстого указана более точная дата: 5–6 апреля 1919 г., которая получила косвенное подтверждение в дневнике В. Н. Муромцевой-Буниной, находившейся в те дни в Одессе [1, с. 414].