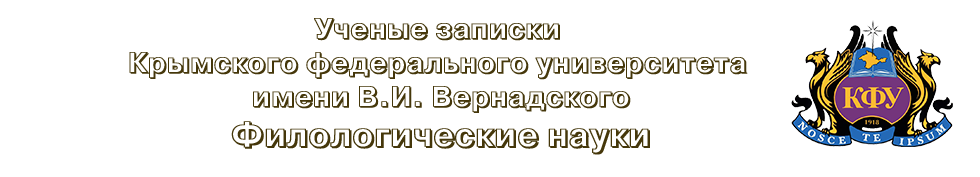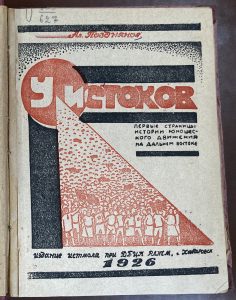ALEXANDER VASILIEVICH POZDNYAKOV AND “CHRNICLES OF THE PUSHKIN HOUSE IN GURZUF”
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ПОЗДНЯКОВ И «ЛЕТОПИСЬ ПУШКИНСКОГО ДОМА В ГУРЗУФЕ»
JOURNAL: «Scientific Notes of V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Philological sciences», Volume 10 (76), № 2, 2024
Publication text (PDF): Download
UDK: 82-311.8
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION
AUTHORS:
Orekhova L. A., V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation
TYPE: Article
DOI: https://doi.org/10.29039/2413-1679-2024-10-2-3-54
PAGES: from 3 to 54
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: A. S. Pushkin Museum in Gurzuf, A. V. Pozdnyakov, People’s Commissariat of Education of the RSFSR, State Archives of the Republic of Crimea, philological regional studies
ABSTRACT (ENGLISH):
The article presents previously unknown documents from the State Archives of the Republic of Crimea and the State Archives of the Russian Federation, which make it possible to reconstruct the pre-war history of the A. S. Pushkin Museum in the Gurzuf house of Richelieu, where in 1820 the poet spent almost three weeks with the Raevsky family. The difficult process of arranging the “Pushkin House” and creating a museum exhibition is detailed. In addition, the heroic fate of the talented director of the Pushkin Museum in Gurzuf, Alexander Vasilyevich Pozdnyakov, a member of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) since 1917, who became the commissar of the Alupka extermination battalion (Yalta partisan detachment) in 1941 and died on the Ai-Petrinskaya Yayla in April 1942.
ВВЕДЕНИЕ
Одну из задач в плане на 1940 год директор музея А. С. Пушкина в Гурзуфе А. В. Поздняков обозначил так: разработать «Летопись Пушкинского дома в Гурзуфе», охватывающую «наиболее значительные события в истории дома» «по момент открытия в доме (по требованию гурзуфских колхозников) музея великого поэта». Иллюстрированная «Летопись Пушкинского дома в Гурзуфе» должна была войти в экспозицию музея и «дать посетителю исчерпывающие сведения» об истории постройки, последующих перестроек дома, а также истории создания музея Пушкина. Мы не знаем, завершил ли А. В. Поздняков составление «Летописи…», до нас, она, к сожалению, не дошла. Началась война, и яркая, но короткая история музея теперь мало известна нашим современникам. Представляемые сегодня архивные документы должны занять свое место в Летописи Пушкинского музея в Гурзуфе.
В Гурзуфе Пушкин провел в 1820 г. «счастливейшие минуты жизни», и в книге «Память о Пушкине в Гурзуфе» (1913) А. Л. Бертье-Делагард убеждал «возобновляющих и отстраивающих» Гурзуф «на новый лад»: «<…> Всего прямее было бы воздвигнуть памятник поэту; да и в Ялте, столице Южного берега, это давно должное дело» [2, с. 1].
Памятник Пушкину в Гурзуфе появится, и не один, но – уже после Великой Отечественной войны. Главным же «пушкинским местом» в Гурзуфе станет музей поэта, расположившийся в историческом здании – в доме Ришелье, где останавливались в 1820 г. Пушкин и Раевские. Идея создания музея, как увидим, развивалась в условиях объективных трудностей, требовала больших усилий и искреннего энтузиазма. История Музея – это не только история реализации научных, популяризаторских и краеведческих задач, но и история усилий по сохранению памяти о Пушкине. Музей был открыт в 1938 г., закрыт при угрозе оккупации в 1941 г., а после войны в разоренном Крыму в доме Ришелье разместился дом отдыха.
Но в 1985 г. возник вопрос о целесообразности сохранения «обветшавшего» дома Ришелье. Спасти здание удалось благодаря тем, кто сознавал ценность «пушкинской памяти» для Крыма и национальной истории. Статья известного литературоведа и культуролога А. П. Люсого «Спасти Пушкинский мемориал» (Литер. Россия. 24. 01. 1986), авторитетная поддержка В. В. Кожинова, статья Л. Леонова, Б. Рыбакова, Г. Свиридова, В. Севастьянова «Гурзуф должен стать Пушкинским» (Литер. Россия. 21. 02. 1986) – обеспечили начало работ по реставрации дома, по восстановлению в нем пушкинского музея [17, с. 102–103; 18, с. 119], вновь открытого 4 июня 1989 г.
Но нельзя забыть исторический путь музея в 1936–1940 гг. и людей, благодаря которым идея создания музея восторжествовала и которые ценой жизни защитили во время войны Гурзуф, Крым, страну. Современная филологическая регионалистика не может не учитывать исторических и личностных факторов [36, с. 171–172] в регионально-историческом дискурсе музейной практики. Цель статьи – на основе впервые публикуемых документов Государственного архива Республики Крым и Государственного архива Российской Федерации восстановить историю литературного Музея А. С. Пушкина в Гурзуфе, сосредоточив внимание на деятельности и героической судьбе директора Музея А. В. Позднякова[1].
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ
1920-е годы
Об историко-краеведческих традициях, размахе музейного дела в Крыму в разные годы и научном потенциале музейных сотрудников можно судить по представленным в книгах профессора А. А. Непомнящего аналитическим и библиографическим материалам [23, 24, 25]. Но история музея Пушкина в Гурзуфе в довоенное время столь несчастлива в своем начале и столь коротка, что в публикациях отразилась очень мало [24, с. 885]. По сути дела, она сохранилась лишь в архивных документах, и вот ее начало.
С установлением советской власти в Крыму в ноябре 1920 г. Крымский ревком развернул работу по спасению музейных ценностей и организации музейного дела. При Наркомате просвещения был создан Отдел по делам музеев и охраны памятников искусства, старины, природы и народного быта (КрымОХРИС). И уже в декабре 1920 г. было решено «Пушкинский домик в Гурзуфе … преобразовать в музей», в августе 1921 г. за «Пушкинским домиком» закреплялся статус музея [20, с. 73, 78, 104]. На I съезде КрымОХРИСа в Севастополе (5–9 октября 1922 г.) был утвержден первый список музеев, в числе которых был Дом-музей А. С. Пушкина в Гурзуфе [20, с. 132–133]. На 1 января 1925 г. в списке музеев Крыма значился Пушкинский дом в Гурзуфе, где по штату утверждалось 2 сотрудника (один из них научный) [14, с. 46], 14 февраля 1925 г. он в числе 7 музеев Крыма включался в госбюджет на 9 месяцев [14, с. 47]. Но, по осенним сведениям КрымОХРИСа (10. XI. 1925), Пушкинский дом в Гурзуфе, состоящий в ведении Крымнаркомпроса и финансирующийся из Госбюджета, «не функционирует, находится в споре с ЮБК<урортом>» [10][2].
В 1927 г. «по причинам экономии» финансирование музеев переводилось на республиканский бюджет. Выявляя «приоритеты финансирования», решили обеспечить «функционирование картинной галереи в Севастополе» и исключить из списка Музей А. С. Пушкина, его помещение передать Южнокрымскому курортному управлению под организацию здравницы, а художественные экспонаты направить для экспозиции в галерею в Севастополе [20, с. 161].
Но, как увидим из дальнейшего, вопрос об организации музея Пушкина не уходит из планов крымского руководства и вновь возникает при подготовке к 100-летию со дня смерти поэта.
1937 год: 100-летие со дня смерти Пушкина
В 1935 г. в Советском Союзе было принято решение всенародно почтить память А. С. Пушкина в столетнюю годовщину его смерти 10 февраля 1937 г. Был учрежден Всесоюзный Пушкинский Комитет по подготовке мероприятий по увековечению памяти Пушкина и популяризации его творчества в связи со 100-летием со дня гибели поэта. Вслед за тем Пушкинские комитеты создавались во всех республиках Советского Союза, а дальше – свои Пушкинские комитеты возникали в областях, городах, даже в станицах и школах. В Государственном архиве Республики Крым сохранились документы, отражающие планы Крымского Пушкинского комитета и позволяющие судить о его очевидных достижениях.
7 мая 1936 г. прошло заседание Пушкинского комитета при ЦИК Крымской АССР; обсуждался вопрос об издании отдельных произведений А. С. Пушкина в переводе на крымскотатарский язык и другие мероприятия [27, с. 217–218].
На следующий день (8 мая 1936 г.) заведующему культурно-просветительским отделом ЦК ВКП(б) А. С. Щербакову в Москву посылается письмо № Р-137 [10, Ф. Р-663, оп. 8, ед. хр. 112, л. 6–7], подписанное председателем Крымского ЦИК Ильясом Умеровичем Тарханом и секретарем Крымского Пушкинского комитета Иргатом Кадыром (с 1934 г. секретарь писательской организации Крыма, участник I Всесоюзного съезда писателей). Важно отметить, что сохранился и черновик этого письма, датированный 5 мая 1936 г. От «белового» варианта он отличается некоторыми исправлениями, одно из которых видится нам принципиальным, а потому приводим именно черновой текст письма, выделив упомянутое исправление:
«Приближается столетие со дня смерти великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. К ознаменованию этого юбилея деятельно готовится вся наша страна, в том числе и Крымская республика.
Творчество А. С. Пушкина тесно связано также и с Крымом, где великий поэт провел значительное время в 1820 году. Многокрасочная природа, солнце и море Крыма вдохновили великого поэта на создание таких замечательных произведений, как “Бахчисарайский фонтан”, “Кавказский пленник”, “Погасло дневное светило”, “Редеет облаков летучая гряда”, “К морю”, “Нереида”, “Талисман” и др. Во время своего пребывания в Крыму А. С. Пушкин жил в Гурзуфе в доме, который с тех пор остался в народе под названием “Домик Пушкина”.
В течение десятков лет этот дом, в котором сохранились и “пушкинский кипарис”, “платан Пушкина”, стол и другие предметы, мраморная доска, отмечающая пребывание его в этом домике, привлекала и продолжает привлекать ежегодно сотни и тысячи туристов, экскурсантов, иностранных туристов.
В настоящее время в этом историческом домике, который принадлежит ВОКу (Всероссийскому объединению курортов. – Л. О.), устроили общежитие на 20–25 коек (зачеркнуто: «для курортников». – Л. О.), вследствие чего “Домик Пушкина” теряет свое исключительно историческое значение, разрушается единственная память о месте пребывания великого поэта в Крыму.
В связи со столетним юбилеем со дня смерти А. С. Пушкина, в целях увековечивания его памяти, Юбилейный комитет при ЦИК Крымской АССР просит вас об устройстве в “Пушкинском Домике” дома-музея великого поэта.
Этот акт явится лучшей памятью великого поэта, оставившего глубокий след в фольклоре и живописи крымскотатарского населения Крымской национальной республики.
Председатель Пушкинского юбилейного комитета
при ЦИК Крымской АССР И. У. Тархан»
[10, Ф. Р-663, оп. 8, ед. хр. 112, л. 6–7].
Без сомнения, общежитие «для курортников» воспринималось гораздо острее, нежели «общежитие на 20–25 коек», и выдавало наличие какой-то внутренней крымской борьбы за здание. Вступая в эту борьбу, И. У. Тархан не мог совершенно рассчитывать на успех, а потому в окончательной редакции письма смягчил формулировку: теперь письмо не выглядело как «сигнал», а спокойно вписывалось в планы предстоящих пушкинских мероприятий.
К письму, кстати, прилагался План издания избранных произведений А. С. Пушкина КрымГИЗом к столетнему юбилею.
Напомним, что еще в 1925 г. дом Ришелье, в котором планировалось открыть музей Пушкина, находился в имущественном споре с Южнобережным курортным управлением, а в 1927 г. окончательно перешел в его собственность под организацию здравницы. Но в июле 1931 г. в системе Наркомздрава РСФСР было создано Всероссийское объединение курортов (ВОК) и курортных предприятий, которое включило в себя и курорты Южного берега Крыма, Евпатории, Саки. ВОКу передавались «курортные лечебные и лечебно-профилактические учреждения и предприятия со всем принадлежащим им имуществом» [38, с. 463]. Это означало, что поднимать вопрос об изъятии дома Ришелье («домика Пушкина») в пользу музея теперь предстояло не на крымском, а на всероссийском уровне, а потому Иргат Кадыр и И. У. Тархан обоснованно рассчитывали на инициативы и поддержку всесоюзного Пушкинского комитета и решения правительства РСФСР.
Можно предположить, что и во Всесоюзном Пушкинском комитете были информированы о борьбе за здание для дома-музея А. С. Пушкина. Характерно, в частности, что на другой день после отправки документов на имя А. С. Щербакова, 9 мая 1936 г., секретарь Крымского Пушкинского комитета Иргат Кадыр телеграфирует в Москву (копия телеграммы сохранилась) секретарю Всесоюзного Пушкинского комитета Е. Ф. Розмирович (1889–1953), старой большевичке с «железным» характером:
«Постановление президиума Крым. ЦИКа посланы 9 мая. Секретарь Крым. комитета Иргат Кадыр.
Адрес отправителя: Симферополь, ЦИК, Гоголевская, 14. 10/V-36»
[10, Р-663, оп. 8, ед. хр. 112, л. 20].
11 мая 1836 г. от Е. Ф. Розмирович приходит срочная телеграмма в Крымский ЦИК и копия в Гурзуфский горсовет (сохраняем точный текст):
«Всесоюзный Пушкинский комитет поступили сведения предполагаемой переделке под санаторий дома Гурзуфе котором жил Пушкин. Прошу сообщить подробности и принять меры стражи. Ответственный секретарь комитета Розмирович» [10, Р-663, оп. 8, ед. хр. 112, л. 21].
Казалось бы, информация о гурзуфском «домике Пушкина» дошла до ЦК ВКП(б), до Всесоюзного Пушкинского комитета, и теперь дело с организацией музея решено. Во всяком случае, и И. У. Тархан, и Иргат Кадыр предчувствовали успех. В этом смысле интерес представляет документ, направленный из Крымского ЦИК в Пушкинский комитет при ЦИК Узбекистана на имя тов. Манкара. Письмо, видимо, написано в самом начале июня 1936 г. в ответ на письмо из Узбекистана № 10-81 от 20 мая 1936 г. Судя по всему, это был консультативный обмен информацией о планах республиканских Пушкинских комитетов, и из Крыма подробно написали о подготовке пушкинских изданий на крымско-татарском языке. Кроме того, уверенно сообщали:
«Помимо вышеперечисленных мероприятий нами будет организован на Южном берегу Крыма в Гурзуфе, где в 1820 году жил А. С. Пушкин, музей Пушкина, во дворе которого будет установлен памятник великому поэту.
Председатель Пушкинского комитета при ЦИК КрымАССР И. Тархан
Секретарь Пушкинского комитета Иргат Кадыр»
[10, Р-663, оп. 8, ед. хр. 112, л. 14].
Но, по всей видимости, это сделать было непросто. Так, в крымском архиве сохранился текст телеграммы И. У. Тархана, посланной 2 февраля 1937 г. (практически за неделю до юбилейных событий) в Москву в Крымпред[ставитель]ство т. Дуббау:
«Второго. Спешной. Ваш адрес выслали материалы Пушкинском доме Гурзуфе. Просьба вручить адресатам немедленно. Сообщите результаты» [10, Р-663, оп. 8, ед. хр. 112, л. 3].
Так или иначе, но настойчивая деятельность И. У. Тархана и И. Кадыра[1] привела к тому, что в перечень мемориальных мероприятий в сводном отчете Всесоюзного Пушкинского комитета («Подготовка и проведение Пушкинского юбилея в СССР») появляется следующая информация, сделавшая процесс необратимым: «Правление и комсомольская организация татарского колхоза им. Осоавиахима в Гурзуфе реставрировали сохранившийся до наших дней домик, в котором когда-то жил Пушкин, собрали в нем обстановку того времени, открыли библиотеку и устанавливают перед домом бюст Пушкина. Президиум ЦИК Крымской АССР постановил открыть в домике музей, посвященный пребыванию Пушкина в Гурзуфе» [1, с. 498].
Обратим внимание, что и в этой информации дом в Гурзуфе, где в 1820 г. останавливался с семьей Раевских Пушкин, назван «домиком», – т. е. так, как назвал его в своем майском (1936 года) письме И. У. Тархан. Вряд ли председатель Крымского ЦИК не знал, что это был большой каменный двухэтажный дом, построенный генерал-губернатором Новороссийского края герцогом Ришелье. Представляется, что некоторое занижение «архитектурности» было необходимым тактическим ходом, благодаря которому «внешне» облегчалась крымская внутриведомственная борьба и предоставление столь значительной собственности под музей стала возможной.
Вместе с тем, создание музея – дело непростое и не может характеризоваться торжествующими заявлениями. В 10 апреля 1937 г. в газете «Красный Крым» была опубликована подписанная инициалами «Н. В.» и рассчитанная на резонанс заметка «Есть ли в Гурзуфе Пушкинский музей?». Приведем ее полностью:
«6 марта в Гурзуфе в Пушкинском доме был открыт музей, посвященный жизни и творчеству великого русского поэта. На митинге по случаю открытия гремела музыка. Представители Наркомпроса Крыма, Союза советских писателей и других организаций произносили речи. С трибуны один за другим о значении наследства великого поэта говорили тт. Умер Ипчи, Муратов и др.
Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе. Иллюстрация из газеты «Красный Крым» за 1940 г. [12]
Все это было 6 марта. Но вот наступило 7 марта. На двери музея повесили замок, который не отмыкался с той поры. Теперь музей заброшен, никакой работы в нем не ведется. За прекрасным парком, в котором когда-то гулял великий поэт, нет присмотра. Над зданием и парком сейчас, по существу, нет хозяина. Трест курортов Южного берега Крыма, в частности, санаторий колхозной молодежи в Гурзуфе, которому принадлежала дача, где находится Пушкинский музей, уже не считает ее своей. Новый же хозяин, организатор музея – КрымЦИК – большого желания вступить в свои права не проявляет.
Ни Пушкинский комитет КрымЦИКа, ни Союз советских писателей не подошли серьезно к этому большому культурному и политическому начинанию и все свои обязанности в отношении музея свели только к необходимости побывать на открытии и произнести там речь.
И сейчас на вопрос – есть ли в Гурзуфе Пушкинский музей, можно ответить: такого музея пока в Крыму нет» [21, с. 4].
Критическую заметку вряд ли стоит воспринимать как справедливую. Сопоставим даты: в феврале в Крыму о возможности открытия музея только узнали; 6 марта в Гурзуфе состоялся, скорее, торжественный митинг, нежели открытие музея для посещений. Организация музея требовала штата работников, подготовки здания, концепции и разработки экспозиции, накопления экспонатов и мн. др. Но, заметим, уже 10 апреля (спустя всего месяц!) появляется столь серьезная критика Крымского ЦИКа. Несомненно, это был тенденциозный (или провокационный) материал, характерный для 1936–1937 гг. и рассчитанный на намеченные последствия [41, с. 3].
Датой открытия музея А. С. Пушкина в Гурзуфе считается июнь 1838 г., хоть экспозиция была небольшой и подготовленной непрофессионально.
1938 год
Необходимо отметить, что работа региональных музеев была в поле зрения Замнаркома просвещения РСФСР Н. К. Крупской. Музейным экспозициям как «средству показа» в деле политического и исторического воспитании уделялось много внимания и средств; особо заботились о подготовке кадров для региональных музеев. В 1937 г. ряд аспектов политико-воспитательной работы в крымских музеях (кроме Севастопольского музейного объединения), а также замеченная халатность «в охране вверенного музеям богатства» вызвали нарекания со стороны Наркомпроса РСФСР, прозвучавшие в жесткой статье сотрудника Наркомпроса К. <А.> Врочинской [5, с. 30–32]. Результатом стало решение об обследовании «состояния руководства музеями Крыма», о котором объявлялось приказом № 11 по Наркомпросу РСФСР от 4 января 1938 г. В этом же документе поручалось директору Высших музейных курсов <Н. Н.> Позднякову и директору института музейно-краеведческой работы <А.> Ширямову «обеспечить посылку лекторов на созываемый Крымнаркомпросом семинар-практикум» [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 4, л. 18–18 об.]. Тем же приказом предлагалось «отделу руководящих кадров и педвузов НКП РСФСР выделить и направить на работу в музеи Крыма не менее 10 человек (по заявке) из числа оканчивающих педвузы и техникумы» [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 4, л. 18 об.]. Документ подписан Замнаркомом Просвещения Н. К. Крупской [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 4, л. 19].
Понятно, что все это вызвало серьезное напряжение в Крымском Наркомпросе и Совнаркоме Крымской АССР. 17 марта 1938 г. в СНК Крыма принимались решения о состоянии музеев в Крыму после начавшихся внутренних проверок (приказ № 476 по Наркомпросу) [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 4, л. 20–20 об.]. Сохранилась составленная в 1938 г. докладная записка Наркомпроса КрымАССР в Совнарком КрымАССР «О состоянии работы музеев Наркомпроса КрымАССР. Апрель. 1938. В связи с приказом Н. К. Крупской от 4. 01.38 и материалами обследования». Выясняется, что вопрос о состоянии крымских музеев должен был обсуждаться на президиуме ЦИК КрымАССР еще 25. II. 1938, но «не был подготовлен и потому перенесен на 7. III. 1938». Однако и к этому сроку доклад не был готов, и слушание его было перенесено еще раз – на 22. III. 38. В конце концов последовал вывод: «Все это показывает, что должного внимания музейному делу Наркомпрос не придает, о чем ярко свидетельствует факт, что должность инспектора по музеям на протяжении 4–5 месяцев оставалась вакантной» [10, Р-20, оп. 7, д. 5, л. 142]. Результатом проверки музейной деятельности в республике в начале 1838 г. стали кадровые перемещения в Крымнаркомпросе (наркомом становится С. В. Поляновская) и усиленное внимание со стороны Наркомпроса РСФСР к работе крымского Наркомпроса.
Остро стояла проблема профессиональной подготовки и переподготовки музейных работников, теории и практики музейной работы. Для сотрудников провинциальных музеев предлагались очные и заочные курсы при главных вузах Москвы и Ленинграда. Так, в плане работы музейно-краеведческого отдела НКП РСФСР на первое полугодие 1939 г. (принят 10. 01. 1939) широко представлен раздел «Оформление заочного обучения музейно-краеведческих работников на базе музейно-краеведческого факультета и музейно-краеведческих групп при биофаке МГУ». При этом подготовкой программ занимались Московский государственный университет и Ленинградский коммунистический политико-просветительный институт им. Н. К. Крупской [33, 34]. За координацию всей работы (набор слушателей в музейно-краеведческие группы биофака МГУ и по музейно-краеведческому факультету при политико-просветительном институте им. Н. К. Крупской, а также за подготовку летней практики) отвечали в конце 1938–1939 гг. сотрудники музейно-краеведческого отдела Наркомпроса тов. <Н. Н.> Поздняков и тов. Быков» [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 4, лл. 129, 130 об., 131–133].
В этом смысле, думается, самую большую тревогу вызывал и у крымского руководства, и у Наркомпроса РСФСР новый музей в Гурзуфе. И тут заметим, что в документах Крымского Наркомпроса начала 1938 г. подробно говорится о работе 9 музеев Крыму, но о Гурзуфском музее, на содержание которого планировалось 11 тыс. рублей – «дополнительные средства из краеведческих» [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 4, л. 143] – упоминалось вскользь. Но уже в августе 1938 г. в докладной записке, подготовленной для недавно избранного (26. VI. 1938 г.) Верховного Совета КрымАССР «О состоянии работы музеев Крымнаркомпроса» Гурзуфский Пушкинский музей включается в сеть крымских музеев [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 4, л. 147]. Это, однако, не означает, что музей успешно развивался.
Объективно о состоянии дел в музее мы можем судить, например, по сохранившейся копии акта ревизии 21–23 февраля 1939 г. финансовых дел музея, проводившейся в присутствии временно и. о. директора Рутштейна и бухгалтера А. Ф. Глинина. Из документа видно, что в делах имущественных полная неразбериха. Штат нового музея немалый, 10 человек с утвержденными окладами: директор (500 р.), бухгалтер (200 р.), завхоз (220 р.), 2 научных работника (750 р.), экскурсовод (200 р.), кассир (115 р.), 2 уборщицы (230 р.), сторож-дворник (125 р.). Но, как следует из документа, назначенную зарплату объявленные штатные работники не получали. При этом мелькают фамилии людей, не несущих финансовой ответственности (Скрыпникова, о которой «никто из работников не знает ее должности»); в музее менялись бухгалтеры; выявляются неверно оформленные документы (скажем, оформленные бухгалтером Сушковым при покупке строительных «материалов у гр-на Кузьмичева») и др. Важно подчеркнуть, что о хищениях речь не шла. Это был результат спешных кадровых назначений и дилетантизма. Музей позиционировался как инициатива «снизу», как самодеятельность колхозной молодежи, поддержанная крымскими властями. Возможно, потому итогом февральской ревизии 1939 г. стали лишь «обязательные указания» контролера-ревизора из Управления Наркомата финансов СССР по Ялтинскому району Муртазаева: «состояние учета и отчетности считаю неудовлетворительным», «немедленно провести инвентаризацию на 1.01.39»; «немедленно расплатиться с работниками музея по зарплате», «изучить свою смету и не допускать в дальнейшем таких перерасходов» [10, Р-20, оп. 7, д. 5, лл. 203–204.
«Домик Пушкина». Фото 20 ноября 1838 г.
Чем объясняется похожее на амнистию решение? Думается, оно связано с государственной установкой на поддержание новых провинциальных музеев, возникших, к тому же, «по инициативе трудящихся». Так, в № 9–10 журнала «Советский музей» за 1937 год в официальном разделе «В НАРКОМПРОСЕ» [с. 76] размещена актуальная для всех музеев информация о необходимости установления консультативных контактов музейного отдела Наркомпроса РСФСР с региональными музейными структурами. Музейный отдел и Планфинотдел Наркомпроса РСФСР обратились ко всем краевым (областным) ОНО и Наркомпросам Автономных ССР с просьбой «принять участие в работе планфинсекторов ОНО и Наркомпросов по составлению контрольных цифр по разделу музеев», «по учету нуждаемости в ремонте» и т. д. Причем Планфинотдел и Музейный отдел «особо останавливаются на вопросе уточнения сети и оформлении ряда новых музеев, возникших по инициативе трудящихся (выделено мною. – Л. О.)».
Подробно о деятельности Гурзуфского музея в 1937–1938 гг. мы узнаем из иных документов. Во второй половине 1938 г. музей попадает под особый контроль со стороны Наркомпроса РСФСР, и поворотным моментом в его развитии стало назначение директором в начале 1939 г. Позднякова Александра Васильевича.
1939 год
История музея подробно «прочитывается» в сохранившихся архивных документах, связанных с деятельностью Позднякова в должности директора Пушкинского музея в Гурзуфе. Оформление деловых бумаг всегда характеризует руководителя. Деловые документы, подготовленные А. В. Поздняковым в 1939 и 1940-х годах, написаны грамотно, отличаются точным подбором слов, убедительностью предлагаемых решений. В них нет бюрократического формализма, они личностны, если можно так выразиться.
Приведем для начала сохранившийся в Крымском архиве приемо-сдаточный акт, из которого следует, что и. о. директора Пушкинского музея в Гурзуфе Рутштейн передает дела и имущество «вновь назначенному НКПросвещения <и. о. директора> Пушкинским музеем в Гурзуфе Позднякову в присутствии представителя крымского НКП тов. Каташинского». Документ приводим в сокращении, но и в таком виде он характеризует реальное положение музея в апреле 1939 г. (сохраняем стилистику и акцентные выделения в тексте документа; даты выделены мною):
«1. Заинвентаризированные экспонаты, размещенные в 4-х комнатах второго этажа музея А. С. Пушкина.
1-я к<омната>. Портреты ЛЕНИНА, СТАЛИНА и портрет ПУШКИНА
2-я к<омната>, отображающая: детство, лицейские годы, петербургский период и южную ссылку А. С. ПУШКИНА
3-я к<омната>. Продолжение отображения южной ссылки и северной ссылки А. С. ПУШКИНА
4-я к<омната>. Последние годы жизни и творчества А. С. ПУШКИНА.
Имеющийся фонд экспонатов еще не учтен. Его инвентаризация будет закончена к 25. IV. 39.
Список всех экспонатов прилагается. Т. о., на базе выставки создан теперешний музей А. С. ПУШКИНА в Гурзуфе.
Недостатки:
а). Судя по имеющимся экспозициям, музей, по существу, представляет из себя большую выставку фотографий, гравюр и иллюстраций о жизни и творчестве Пушкина, где теряется, в известной мере, период южной ссылки великого поэта, что противоречит направленности музея, определенной НКП.
б). Почти совершенно отсутствуют скульптуры, если не считать фигуры поэта работы Курбатова, художественная ценность которой, а также ее пригодность для музея вообще серьезно оспаривается специалистами.
в). Крайне малы и бедны художественные репродукции.
г). Совершенно отсутствует что-либо из обстановки того времени, когда жил в домике великий поэт.
д). В оформлении экспозиции видна спешка, с которой она производилась; отсутствуют этикетки на родном языке коренной национальности.
е). Нет серьезно организованного вводного отдела музея.
ж). Отсутствует конституция СССР, нет связи экспозиции музея с современностью, отсутствует показ экономики того периода, музей не отзывается на политические события страны и литературные события.
з). Совершенно недостаточная популяризация музея.
- Производственного плана музей в своей работе не имеет. Составленный в свое время сотрудником Семерницким, он не был принят Наркомпросом, потому судить о выполнении плана не представляется возможным.
- Смета составлена <на> 1939 г. в доходной части по бюджету в 55 т. р. и спецсредствам в 30 т. р., а всего 85 т. р. На эту сумму составлена и расходная часть сметы. Смета, будучи представлена в РайФО в начале декабря 1938 г., до сих пор последним не утверждена, чем затрудняется самое исполнение сметы, по которой необходимо работать. Квартальный отчет за I квартал 1939 г. по приходно-расходной части представлен в РайФО и принят последним без замечаний <…>. Сальдо на 22. IV. 516 р. 80 к.
А. И. Рутштейн» [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 5, лл. 184–185].
Здесь же и информация об оплате скульптуры Курбатова, о которой еще пойдет речь: 10 августа 1938 г. уплачено 10 т. р., накладные расходы по доставке 1667 р. 19 к.; экспертиза 733 р. 25 к.; командировка по делам скульптуры 671 р. 07 к. По скульптуре не закончена экспертиза, «как и самое дело по расплате за скульптуру, поскольку художественная ценность ее еще не определена» [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 5, л. 185]. Вернемся, однако, к приемо-сдаточному акту:
- 4. Штат музея укомплектован из следующих лиц: директор, научный сотрудник, бухгалтер (он же кассир), завхоз, уборщица, нет экскурсоводов. Судя по переписке с Отделом кадров Московского Пушкинского музея, последний предполагает выделить экскурсоводов.
- Хозяйственный инвентарь Пушкинского домика в смысле инвентаризации не учтен, но записан в инвентарной книге.
Состояние построек, кем и чем они заняты, выглядят следующим образом:
Нижний этаж, помимо вестибюля, имеет 6 комнат, из которых одна занята под канцелярию музея, 1 – под хранение фондов, 1 – под жилье уборщицы, 1 – временно занимается семьей бывшего директора музея Корниенко, 1 – директором музея и 1 свободна.
Верхний этаж – 5 комнат, из них 4 заняты под экспозиции, 1 свободна, пустует также и огромная веранда домика.
1-й флигель имеет 3 комнаты: 1 – живет завхоз, 1 занята бывшим сотрудником музея и 1 свободна, но запущена.
2-й флигель деревянный, имеет 3 комнаты, 1 занята бывшим сотрудником музея, 2 свободны, но крайне запущены, а коридор полуразрушен и находится в крайне антисанитарном состоянии.
Домик Пушкина нуждается в ремонте: необходим капитальный ремонт крыши, поделка водосточных труб, ибо отсутствие их привело к отсырению углов фасада дома; перекраска облупившихся стен при подъемах на лестницах, исправление и покраска дверей, ремонт печей, заделка обвалившейся штукатурки снаружи. Электросвет имеется только в 4 комнатах и при входе. В остальных надо заново оборудовать проводку.
Сметой предусмотрен отпуск 10 т. р. на ремонт. Дефектные акты еще не составлены. Рабочей сметы также нет.
- При музее А. С. Пушкина совершенно отсутствует какая бы то ни было библиотека, а потому отсутствует какая бы то ни было литература о ПУШКИНЕ и что-либо из произведений Пушкина. Музеем ничего не выписывается за исключением газеты “Красный Крым”. Имеющуюся по смете 1000 р. благодаря тому, что она не рассмотрена еще в РайФО, реализовать нельзя.
- Имеется договор на соц<иалистическое> соревнование, заключенный музеем с музеем А. П. Чехова в Ялте.
- Трудовых книжек заполненных в наличии 4 и чистых бланков книжек 14 экземпляров; 2 выданы на руки уволенным (Семерницкому и Фрех).
- Принята круглая печать музея “Пушкинский музей в Гурзуфе”. В середине: “Наркомпрос КрымАССР с надписью на русском и крымскотатарском языках”»
Под документом подпись Рутштейна [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 5, лл. 185–186].
Энергичный стиль и включение информации о скульптуре Курбатова подсказывают, что в составлении документа участвовал «вновь назначенный» директор музея Поздняков. Сразу подчеркнем, что все описанное в документе следует видеть с позиций того времени – предвоенного времени. Кроме того, понятно, что «переход» собственности санатория в музейную собственность в любом случае процесс нелегкий; по сути дела, законная передача собственности не была оформлена: как помним, дом «перешел» музею «по инициативе снизу», когда комсомольцы отряда имени Осоавиахима по собственному усмотрению «привели в порядок» и, исходя из возможностей, «обставили» и украсили комнаты дома Ришелье единственно тематически возможным образом – фотографиями, рисунками, вырезками из газет. И опять подметим, что многочисленные картинки, рисунки, ставшие экспонатами, по сути дела, не музея, а выставки, не должны удивлять и вызывать снисходительную усмешку наших современников – это было отражением самодеятельного творчества, это радовало людей, и было это впервые в нашей истории. И, так или иначе, посетители открывали для себя Пушкина.
Не должно удивлять и то, что в комнатках флигелей и 1 этажа позволили поселиться семьям работников музея. Проблема жилья на Южнобережье – дело давнее и известное. Нельзя исключать, что эти комнаты и подсобные помещения и прежде использовались как жилье для обслуживающего персонала санатория. Другое дело, что здание остро нуждалось в ремонте.
«Вновь назначенный директор» А. В. Поздняков
Александру Васильевичу Позднякову свойственна была тактика немедленного принятия решений. Приехав в Гурзуф и оглядев музейную экспозицию, он сразу видит не только направления работы, но и пути решения проблем. Обратим внимание в цитированном акте на историю странной монументальной скульптуры Пушкина работы Курбатова, «художественная ценность» которой «еще не определена» и которую приобрело по договору предыдущее начальство музея и полностью пока не расплатилось. Нет сомнений, что Поздняков увидел скульптуру до составления приемо-сдаточного акта (значит, приехал в Гурзуф гораздо раньше), и она сразу вызвала его неприязнь. Более того, Поздняков сразу понял, что отказ от скульптуры потребует немало времени и усилий. Но ему удалось очень быстро организовать приглашение для экспертизы известных скульпторов из Москвы и Одессы. Результаты экспертизы сохранились.
8 апреля 1939 г. (т. е. раньше составления приемо-сдаточного акта) скульптуру, «по поручению Правления Московской организации Союза художников (МОСХ)» осмотрел в Гурзуфе скульптор Ив. С. Ефимов и составил заключение (вот фрагменты):
«Александр Сергеевич Пушкин изображен сидящим, откинувшимся назад, с судорожно сжатыми руками, положенными на локотники бесформенного кресла. Тема не понятна: Пушкин изображен как бы в мучительных потугах творчества, что совершенно не характеризует образ светлого гения ПУШКИНА. Размер фигуры натуральный, что при условии натуралистической окраски сводит скульптуру к манекену.
Материал фигуры – один из видов цветной пластмассы (секрет автора) Лицо скульптуры – терракотового тона. Глаза – мутные, мертвые. Волосы – мутно-темные. Платье – коричневое. Кресло – буро-малиновое и серые сапоги, на руке золотой перстень. Раскраска случайная и вредит восприятию скульптуры».
И. С. Ефимов делает вывод: «скульптура ПУШКИНА работы Курбатова для периферийного музея, каким есть музей в Гурзуфе, <…> как неправильно раскрывающая образ Пушкина, а также дающая искаженное понятие о скульптуре вообще и внедряющая плохой художественный вкус, должна быть снята с экспозиции музея», а «стоимость скульптуры ПУШКИН, установленная в сумме тридцать восемь тысяч рублей, крайне завышена и не соответствует действительной цене скульптуры, которая, по моему мнению, не превышает 7 000 рублей» [10, Р-20, оп. 7., ед. хр. 5, лл. 178–178а].
Почти тогда же, 11 апреля, была проведена экспертиза музейной скульптуры профессором Одесского художественного училища Д. К. Крайневым:
«Скульптурная фигура А. С. Пушкина, выполненная из пластмассы, производит очень неприятное впечатление, прежде всего, своей полихромностью (лицо и руки окрашены в грязно-охристый тон, долженствующий напоминать собою цвет тела). Рубашка с расстегнутым воротником, откинутым на воротник сюртука, окрашенная в белый цвет, дает впечатление не полотна, а толстого котельного железа. Если отбросить окраску и рассматривать только со стороны формы и композиции, то и тут оказываются большие погрешности. Пропорции тела не выдержаны <…> Спокойная окаменевшая посадка самой фигуры с однообразно положенными на подлокотники кресла руками не характерна для образа поэта, отличавшегося необыкновенной подвижностью. В выражении лица видна та же окаменелость.
Для экспозиции в музее такое изображение поэта нельзя считать подходящим» [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 5, лл. 178].
Организовать экспертизы такого уровня и в короткие сроки невозможно без консультаций и содействия опытных работников из Наркомпроса. Отсюда вывод, что Поздняков имел поддержку в Наркомпросе РСФСР и при его посредстве рекомендован на должность директора музея Пушкина. Кроме того, в Крым он приехал раньше 1939 года, детально ознакомился с ситуацией в музее.
Обратим внимание, что в апрельском номере журнала Наркомпроса «Советский музей» за 1939 год опубликована статья Г. Холина «Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе». Начало статьи – спокойный рассказ об истории дома Ришелье и пребывании здесь Пушкина с семьей Раевских. Но далее понятно, что цель статьи – показать Гурзуфский музей Пушкина «в настоящем своем виде»; музей пока «нельзя даже назвать музеем, потому что в нем ничего, кроме самого здания, музейного нет», а из 12 комнат «только три кое-как заполнены фотокопиями передвижной выставки Государственного литературного музея»: «Никакого объемного материала, кроме бюста и маски Пушкина, нет. <…> Гурзуфский музей не знает, чем ему заполнить свои 12 пустых комнат. Эта пустота производит тяжелое впечатление и многих (особенно местных руководящих работников) наводит на мысль: не целесообразнее ли прекрасное здание музея занять под санаторий?» При таком положении «самым правильным решением вопроса» Г. Холин видит «превращение Гурзуфского музея Пушкина в филиал Центрального государственного музея А. С. Пушкина». «Гурзуфский музей Пушкина очень нуждается в хорошем и постоянном руководстве со стороны Центрального государственного музея А. С. Пушкина (Москва), – поясняет он. – Центральный музей Пушкина безо всякого вреда для себя может из своих фондов выделить некоторое количество изобразительных материалов для Гурзуфского музея» [42, с. 31–32].
Понятно, что статья создавалась по инициативе Позднякова. Вышла она в апрельском номере; журнал сдан в производство 29 марта 1939 г., а подписан в печать 1 апреля 1939 г. Стало быть, готовилась статья, по крайней мере, в начале марта (с учетом пересылки в Москву), когда Поздняков официально еще не принял музейные дела. Это еще раз убеждает нас, что приехал Поздняков в Гурзуф значительно раньше своего назначения и что назначение его было связано с выбором и поддержкой Наркомпроса РСФСР. Решение опубликовать статью с предложением перевести Гурзуфский музей в статус филиала Центрального музея Пушкина выросло у Позднякова с осознанием истинного положения дел в музее, которые, как он думал, могли быть решены лишь из столицы (урегулирование вопросов собственности, материальная база, ремонт здания, создание научной базы и экспозиции). Однако понимания эта идея у крымского руководства, видимо, не находила. Поздняков чувствует, что остается один на один с многочисленными проблемами музея, и предпринимает новые ходы.
16 апреля 1939 г. (т. е. Поздняков только что назначен исполняющим обязанности директора Гурзуфского музея и еще не принял дела музея по акту) он пишет в Верховный совет Крымской АССР. Настроен решительно, и обратим внимание на тональность его письма:
«Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе является единственным в Крыму музеем, отражающим период южной ссылки поэта и, в частности, крымский период его жизни.
Открывшись только в прошлом 1938 году, музей стал одним из популярнейших экскурсионных объектов Южного берега, пропускающим в летние месяцы до 20 экскурсий в день. Однако экспозиция музея очень скромна и ограничивается преимущественно фотокопиями и гравюрами. Большим недостатком музея является отсутствие в нем пушкинских реликвий или, по меньшей мере, предметов, относящихся к пушкинской эпохе.
Между тем гурзуфские старожилы свидетельствуют, что до 1930 года в домике Пушкина была старинная обстановка, сохранившаяся со времен Пушкина. Эти же старожилы (Аличев и др.) сообщают, что к расхищению имущества Домика приложил руки ряд частных лиц и общественных и государственных организаций Гурзуфа. Особенные старания в этой области проявили совхоз Гурзуф и санаторий Колхозной молодежи (Дом отдыха “Колхозная молодежь”; в 1944 г. передан лагерю “Артек”. – Л. О.). Последний перед передачей домика музею произвел полное опустошение этого ценнейшего пушкинского памятника.
Часть вывезенного имущества нам удалось разыскать в санатории Колхозной молодежи в Гурзуфе».
Далее следует список из 9 позиций с перечнем «пропавших» предметов и просьба:
«Руководство санатория Колхозной молодежи и дирекция треста ЮБК категорически отказываются <возвратить> в домик Пушкина все эти предметы.
Дом-музей Пушкина просит вас вынести решения:
- О немедленной передаче музею перечисленных предметов, находящихся в данной время во владении санатория Колхозной молодежи.
- О создании комиссии для выявления у частных лиц и организаций предметов, вывезенных и вынесенных из Пушкинского дома, с предоставлением этой комиссии права изъятия и передачи музею Пушкина в Гурзуфе этих вещей» [10, Р-652, оп. 15, ед. хр. 12, л. 29–29 об.].
В Верховном Совете ознакомились с поступившим документом, но посчитали способ изъятия незаконным. Напротив пункта 1-го написано красным карандашом: «Только в добровольном порядке»; напротив пункта 2-го: «Незаконное дело».
Действительно, факты нуждались в доказательствах, а действия Верховного Совета Крыма – в решениях суда. Видимо, это твердо объяснили Позднякову. В будущем, обращаясь к вопросу о предметах, когда-то находившихся в доме Ришелье, он действует обоснованнее, ведет работу по поиску, установлению, где хранятся или используются эти предметы. Из дальнейшего узнаем, что впоследствии некоторые из них удалось возвратить музею.
Поздняков устанавливал контакты и сотрудничество с музейщиками Алупки, Севастополя, Феодосии, Керчи, Симферополя. Наилучшее представление о состоянии музея дает нам его докладная записка в Наркомат просвещения Крыма, составленная в канун 140-й годовщины со дня рождения Пушкина 3 июня 1939 г. с надеждой на повышенное внимание к музею в связи с юбилеем Пушкина. Приведем документ, максимально сохраняя содержательные стилистические детали и выделенные фразы:
«1. Музей А. С. Пушкина в Гурзуфе, открытый с 1 июня прошлого года (1938 г. – Л. О.), создан на базе выставочного материала, состоящего из фотокопий, гравюр и иллюстраций. Имеются маленькие полотна копий картин “Пушкин в Алупке”, “Пушкин на берегу Черного моря” и т. д. и скульптура Курбатова, изображающая Пушкина в кресле. Большинство картин – это плохие, малоценные копии. А некоторые и прямо искажающие образ великого поэта.
а). Самокиша “Пушкин и Воронцов”, где не только не передано отношение поэта к этому придворному вельможе-самодуру, заклейменному Пушкиным в известном четверостишии “Полу-герой, полу-невежда”, а наоборот, Пушкин изображен как бы дворецким этого вельможи.
б). Дородницкого “Пушкин перед дуэлью”, где поэт больше похож на тестя Воронцова, известного в свое время гастронома Браницкого. На фоне снега огромных размеров следы, отнюдь не могущие претендовать на следы человека. Эта картина не передает момента перед дуэлью, как это с исчерпывающей полнотой освещено уже в литературе. Картина “Пушкин в семье Раевских” того же автора отличается грубой, неряшливой недобросовестностью. Вместо радостной и милой семьи, восхищенного и осчастливленного Пушкина отображены одеревеневшие, макетные фигуры.
в). Скульптура Курбатова “Пушкин в кресле”, несмотря на ее баснословную стоимость (38 тыс. руб.), совершенно искажает облик поэта, и из живого, подвижного, динамичного Пушкина он передан болезненным, с мученическим, потухшим взглядом.
Объясняются эти примеры, на наш взгляд, тем, что ориентировались на малоценные художественные экспонаты (лишь бы заполнить пустоту), а отсюда и заказы случайно подвернувшемуся художнику. А в скульптуре пренебрегли элементарной необходимостью консультации специалистов из Союза скульпторов, ибо при этом скульптура в том виде, как она есть, в музей не попала бы.
г). На фоне экспозиций, отображающих жизнь и творчество поэта, материал о периоде южной ссылки и особенно крымском периоде представлен таким образом, что он теряется в общем комплексе, и к тому же этого материала крайне недостаточно. Политико-экономический строй того периода не нашел никакого отражения. Совершенно отсутствуют заголовки отделов, а потому, чтобы посетителю наиболее полно познакомиться с интересующим его периодом, необходимо по снимкам и однообразным текстам его отыскивать.
Совершенно не отображено, что только Великая Пролетарская Революция впервые по-настоящему создает Пушкину подлинно народную славу национального русского поэта, славу великого поэта народов советской страны. Нет отдела Сталинской Конституции СССР, раскрывающей все величие нашей социалистической эпохи и постепенного перехода к коммунизму.
- В музее совершенно отсутствует что-либо из обстановки того времени, когда жил в домике великий поэт. В постановлении правительства КрАССР, по которому организован здесь музей, не оговорено о передаче и всей обстановки дома, а это крайне затрудняет не только ее изъятие, но и выявление в недрах Гурзуфских санаторий Госкурорта, который до сих пор не соглашается передавать даже чертежи дома и его канализационной системы. На отсутствие обстановки справедливо указывают и посетители музея: “Хорошо было бы восстановить обстановку дома того времени”, “К сожалению, нет ничего из обстановки <…> которая давала бы представление о быте того времени”, “Думал увидать обстановку, в которой жил Александр Сергеевич, – не сохранилась, очень жаль”, “Хотя бы один Пушкинский стул в музее!” На это указывают посещающие музей советские поэты, писатели. В музее совершенно отсутствует Полное собрание сочинений Пушкина, да и какая бы то ни было литература о Пушкине. Из 5 книг, бывших в музее, осталось 3, и те не представляют ценности. Изучение литературы о Пушкине в других музеях (Ялтинском, Алуштинском и Центральном) связано с большой потерей времени и средств, ибо каждый музей не выпускает книги из своих библиотек. Мыслима ли научно-исследовательская работа без книг! Мыслим ли Пушкинский музей без произведений Пушкина!
- Ценнейшим памятником великому поэту является сам домик, где Пушкин провел свои счастливейшие минуты. Несмотря на обилие сменившихся хозяев и его переделки, он в своем фасаде сохранил основные архитектурные контуры того времени, когда жил в нем великий поэт. Десятки тысяч экскурсантов ежегодно посещают этот памятник.
“Пусть чудный Гурзуф украсится еще воспоминанием о нашем любимом, великом А. С. Пушкине” (народная артистка СССР Книппер-Чехова).
“Хочется, чтобы этот милый домик стал по-настоящему музеем А. С. Пушкина”.
“От души горячо приветствую организацию музея в местах, овеянных памятью великого поэта. Это послужит лучшей охране ценного домика…” (Проф. Шумилин).
“Склоняюсь перед великим Пушкиным, в особенности после посещения этого уголка, где гений жил” (Омелетко, Ялта).
“С большим удовольствием посмотрел я уголок, где когда-то жил великий русский поэт” (Гамов).
“Идея создания музея в домике замечательная” (Назаров) и т. д.
К домику примыкает любимый Пушкиным кипарис; фонтан, воспетый Пушкиным, разрушен. Поселковый совет при нашей помощи решил его восстановить (выделено мною. – Л. О.).
Предложения:
- Согласно решения Наркомпроса РСФСР музей, а вернее, дом-музей А. С. Пушкина в Гурзуфе должен отображать период Южной ссылки поэта, с подчеркнутым выделением крымского периода <…>.
В связи с этим перестройка экспозиции мыслится следующим образом:
- “Пушкин принадлежит Советскому народу”.
- “Детство и лицейские годы”.
- “Общественно-литературная борьба <18>10-х гг., политические стихи и ссылка на Юг”.
- “Политико-экономический строй и классовая борьба I-й четверти 19 в. в России и Крыму”.
- “Пушкин в Крыму”.
- “Крымские мотивы в творчестве Пушкина”.
- “Кишиневская ссылка», «Одесская ссылка”.
- “Последующие годы жизни Пушкина и его смерть”.
Т. о., из 10 отводится 7 комнат (если говорить об объеме) для отображения «Южной ссылки» поэта, отводя для первой темы огромную, светлую солнечную галерею. Вестибюль музея отводится под художественную роспись по теме “Конституция СССР”.
Конечно, основной экспозицией должна быть историко-литературная документация (рукописи, автографы, рисунки, гравюры) с обязательными иллюстративными материалами – картинами и скульптурами художественной полноценности, апробированные специалистами, очищая тем самым музей от всего того, что искажает образ поэта. Несомненно, что каждая комната музея должна иметь свой тон окраски, подводящий посетителя к лучшему восприятию содержания экспозиции. Здесь же должны найти место макеты, в частности, замена плоскостной карты маршрута Пушкина в Крыму – ее рельефным изображением. Помимо этого, организация выставок по литературным событиям. Одна из таких выставок, посвященная Шевченко, сейчас организована музеем.
- В области охраны пушкинских памятников необходимо добиться не только выявления обстановки дома 1820 г., но и ее изъять, ибо основным владельцем этой обстановки сейчас является Госкурорт ЮБК. Было бы очень желательным восстановить мезонин и бельведер дома, где работал и жил Пушкин с сыном Раевского. Но отсутствие каких-либо указаний, кроме внешнего облика и большой стоимости этой работы, вынуждает пойти вначале на создание полноценного и высококачественного макета “Дома 1820 г.”, который бы по имеющимся гравюрам, документам, изложенным, в частности, в книге Бертье Делагард<а>, давал полное представление о домике, каким он был в 1820 г., т. е. в то время, когда жил в нем великий поэт. Из других памятников с ассигнованием небольших средств (2000–2500) необходимо восстановление фонтана на Ленинградской улице в Гурзуфе, тем более что часть средств вкладывает поселковый Совет. Такие памятники, как кипарис, масличная роща, Салгир-Авунда, Георгиевский монастырь, Бахчисарай отметить мемориальными досками.
- Научно-исследовательская работа должна пойти по линии: собрание и изучение всех материалов о пребывании Пушкина в Крыму и вообще в Южной ссылке; собрание и изучение материалов о состоянии Крыма и вообще Новороссийского края в период Южной ссылки Пушкина; собирание и издание крымского фольклора, отразившегося в произведениях А. С. Пушкина; собирание и изучение фольклорных материалов, отображающих отношение населения к Пушкину и память о поэте в Крыму.
- Несомненно, что никакой серьезной научной работы без научной библиотеки, составленной из трудов Пушкина и о Пушкине – рукописного наследства Пушкина (фотокопий), архивных документов о Южной ссылке поэта – проводить нельзя. Из намеченных ранее 1000 р. по бюджету РайФО утвердило нам 500 р. на эти цели. Конечно, это до смешного недостаточная сумма, если иметь в виду еще и выписку периодических изданий, которые в прошлом году совершенно не приобретались, за исключением газеты “Красный Крым”.
- Музей должен издать в ближайшее время: краткую программу-справочник по музею, путеводитель и поставить своей задачей составление и издание книги “Пушкин в Крыму”. То, что рассыпано сейчас о Пушкине в различных справочниках по Крыму и литературе “Пушкин и Крым”, в значительной степени изложено по досужим выдумкам или искаженным источникам. (Выделено в Наркомпросе красным карандашом. – Л. О.).
- Музей поставил своей задачей организацию лекций и выставок среди местного населения, в колхозах и совхозах, организацию их экскурсий в музее, организацию литературных вечеров как взрослого населения, так и отдельно детей-школьников, создание из среды последних кружков пушкинистов по примеру тов. Молдавского в отношении краеведения.
- Как видите, музей находится в стадии собирания, организации материалов. Онем нельзя судить по музеям, существующим десятки лет (Центральный, Керченский), или музеям, созданным на готовом сохранившемся материале (Дворец в Алупке, Дом Чехова в Ялте). Он, как молодая поросль, крайне нуждается в практической поддержке, внимательном руководстве с учетом его собственного лица, а не валового подхода, когда все указания, которые шлют нам из НКП РСФСР, ориентируют нас или на археологические раскопки, или на работу историко-археологических музеев вообще (выделенное зачеркнуто в Наркомпросе красным карандашом. – Л. О.). Эта внимательность должна быть и при определении материальной базы работы; ее сейчас нет, ибо все средства на научно-исследовательскую работу исключены из бюджета и перенесены в спецсредства, а это значит, что мы лишены возможности делать капитальные затраты без их накопления к концу года и не только делать это, но и выдавать авансы на начало работы тех или иных заказываемых экспонатов. Кооперирование с другими музеями в Крыму не удается в силу различия профилей, а следовательно, и тематики. Из фондов нам обмениваться не с кем и нечем, а то, что имеется в других музеях, в частности, в Центральном, Алупкинском, которые могли бы нам помочь кое в чем, но, к сожалению, цепляются за экспонаты в своих фондах, хотя они им не нужны и не используются и не будут использованы.
Музей Пушкина не является музеем районного значения, естественно, должен быть органически связан помощью со стороны Московского Пушкинского музея и Литературного музея как в консультации по разработке экспозиций, так и приобретении самих экспонатов. А это, в свою очередь, не может ограничиться единой канцелярской связью, а необходимы и личные взаимные выезды. В ближайшее время необходимы выезды в Москву, Ленинград и Одессу. В последнюю необходим выезд для знакомства с архивом Ришелье, которому принадлежал дом, где останавливался Пушкин в Гурзуфе, и приобретения как описания, так и картины дома, а также данных о Гурзуфе того времени.
Помимо этого, выдвигаем как совершенно необходимое мероприятие повышение квалификации кадров музея. Люди в музей пришли новые, без навыков музейной работы и литературного образования. И это необходимо восполнить посылкой на соответствующие курсы.
Такова оценка и предложения.
Ваше решение просим сообщить, чтобы положить их в основу нашей дальнейшей работы.
- VI. 39. Директор Пушкинского музея в Гурзуфе
А. Поздняков» [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 5, л. 179–183].
Остается удивляться, насколько и широко, и детально сумел Поздняков понять обстановку в музее, увидеть будущее Пушкинского музея. Насколько стройно и четко он сумел объяснить стоящие перед музеем и крымским Наркомпросом задачи, обращаясь в конечной фразе напрямую и рассчитывая на поддержку.
Напомню, что передача музейного имущества происходила в конце апреля 1939 г. Не прошло и двух месяцев, а Поздняков направил в крымский Наркомпрос столь стройную программу развития музея, находившегося в состоянии безнадежной дезорганизации весь 1938 год. Он даже заручился поддержкой Гурзуфского поселкового Совета в восстановлении фонтана на Ленинградской улице в Гурзуфе. Казалось бы, составленная им докладная записка должна была внушить в Наркомпросе уважение к выполненной в кратчайший срок работе и вызвать желание всемерно помогать. Но, видимо, от Наркомпроса поддержки не последовало, хотя, наверное, обещания были. Причины бездействия, думается, связаны с кадровым составом, с низкой компетентностью работников крымского Наркомпроса.
…К 140-летию Пушкина газета «Красный Крым» посвятила событию всю третью полосу, торжественно ее оформив и поместив в центр портрет Пушкина (рис. симферопольского художника Ф. Литвинова). Под портретом – статья директора Пушкинского музея в Гурзуфе А. Позднякова «Пушкин в Крыму» [30, с. 3]; здесь же – небольшие доступные широкому читателю статьи профессора-пушкиниста Д. Благого («Драгоценно каждое слово») и сотрудника Государственного музея Пушкина в Москве И. Родина («В творческой лаборатории»). Из местных материалов интересна информация «Произведения Пушкина на крымскотатарском языке» – об уже вышедших в Крыму около 50 тыс. экземпляров переведенных произведений Пушкина [27, с. 217–219] и готовящихся новых публикациях в КрымГИЗе. Помещена здесь и большая статья «Народный гений» сотрудника «Красного Крыма» В. Вихрова (настоящая фамилия Зайко; печально известен в истории крымской пушкинистики несправедливым печатным выступлением в 1936 г. против переиздания книги «Пушкин в Крыму» талантливого исследователя Б. Л. Недзельского, обвиненного Вихровым в «крохоборческом академизме» [28, с. 170–177; 26, с. 214–259]).
Прошел пушкинский юбилей, но никаких решений в отношении закрепления дома Ришелье за музеем и возвращения имущества, находившегося в этом доме, не последовало. Осенью (7 октября) 1939 г. Поздняков вновь пробует обратиться к крымским властям, убеждая – теперь уже от имени обещавшего поддержку крымского Наркомпроса – перевести дом Ришелье из санаторной собственности в музейную. Составленный Поздняковым проект докладной записки Совету народных комиссаров Крымской АССР «от наркома просвещения» Поляновской «О Гурзуфском Пушкинском музее» сохранился в Крымском архиве – среди документов Наркомпроса. Приведем этот текст, сохраняя правку сотрудника Наркомпроса (точнее, это вычеркивания фраз и слов, показавшихся неприемлемыми):
«Пушкинский музей в Гурзуфе, созданный по инициативе местных колхозников, энергично поддержанной и закрепленной решением Крымского правительства, существует 2-ой год. Второй год музей фактически владеет домом, юридически принадлежащим Госкурорту, державшему его в крайней запущенности. Пушкинский парк до сих пор принадлежит Госкурорту. Парк находится в состоянии крайнего запустения, несмотря на спецсредства, ассигнованные на сохранение парка, которые не используются для этой цели.
Решения о передаче и закреплении дома за музеем нет до сих пор. Это в свою очередь лишает возможности музей получить <от> Госкурорттреста чертежи дома, без чего крайне затрудняется ремонт, и Госкурорт всячески настаивает возвратить им здание. Больше того, музей до сих пор, несмотря на все усилия, совершенно лишен возможности получить для своей экспозиции ту ценную обстановку эпохи первой половины XIX века, которая изъята из дома, находится до сих пор частично (по прилагаемому списку) в большинстве случаев на складах санатория Колхозной молодежи Госкурорта в Гурзуфе, в санатории РКК и других учреждениях. Наши попытки договориться при поддержке местного курортного поселкового совета о передаче этой обстановки музею наталкиваются на <зачеркнуто>, граничащие с сутяжничеством со стороны директора санатория т. Косматова <вычеркнуто> [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 5, л. 107].
Пушкинский уголок в Гурзуфе (дом, парк) является единственным памятником великому поэту в Крыму. Он за короткий срок работы музея стал любимым местом посещений многочисленных экскурсий, стекающихся сюда со всего Южного берега.
Достаточно сказать, что за год работы музея его посетило 40 тыс. человек. Все они тепло приветствуют решение СНК КрымАССР о создании здесь музея, но в то же время справедливо указывают на бедность музея, полное отсутствие какой бы то ни было обстановки Пушкинского времени.
<Зачеркнуто выделенное:> Казалось бы элементарным пойти со стороны руководства Госкурорта и других организаций всячески навстречу этому и проявив внимание. Но, к сожалению, видимо, ведомственная самовлюбленность лишила возможности их в данном случае подойти и разрешить этот вопрос по-государственному, отказавшись от ведомственной узости.
Поэтому мы вынуждены обратиться в СНК КрымАССР с просьбой Пушкинскому музею возвратить ряд материалов из других организаций, правильно и окончательно разрешить вопрос, тем самым обогатив музей Гурзуфа, столь обильный Пушкинскими памятниками (скала, фонтан, роща, кипарис и т. д.); по нашему мнению, своевременно было бы обогатить и постановкой памятника великому поэту, что вполне мог бы сделать Госкурорт ЮБК» [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 5, лл. 106–107].
К проекту прилагались: 1. Проект постановления СНК КрАССР и 2. Составленный научным сотрудником музея Г. Сатировым список вещей, ранее принадлежавших Пушкинскому дому в Гурзуфе.
Список прилагаем:
«Сообщаю результаты моей работы по выявлению вещей, ранее принадлежащих пушкинскому дому в Гурзуфе. Путем опроса старожилов и личного осмотра складов и зданий я обнаружил следующие вещи, вывезенные из Пушкинского Дома.
|
|
Наименование |
Кол-во |
Где сейчас находится |
|
1. |
Мраморные бюсты античных мыслителей (Сократа, Солона и др.) с постаментами |
7 |
В вестибюле главного корпуса и в подвале Госкурорта |
|
2. |
Мраморный бюст Демосфена |
1 |
На даче Ледантью |
|
3. |
Картины маслом проф. Фрике (Гурзуф в 1850 г.). Размер: ок. 1,5 м. на 1 м. |
2 |
В библиотеке-читальне Госкурорта |
|
4. |
Картины маслом неизвестного художника (мужской и женский портреты). Размер 1.00 м на 0, 75 м. |
2 |
В подвале Госкурорта |
|
5. |
Часы старинной работы в бронзовой оправе |
1 |
В подвале Госкурорта |
|
6. |
Экран для камина черного цвета, стиль – русский ампир |
1 |
В столярной мастерской |
|
7. |
Кресло старинной работы, стиль – русский ампир |
1 |
На даче б. Скворцова |
|
8. |
Этажерка старинная |
1 |
На даче б. Скворцова |
|
9. |
Диван старинный |
1 |
На даче б. Скворцова |
|
10. |
Бронзовый бюст Екатерины II. Высота ок. 30 см. |
1 |
На складах Госкурорта, расположенных на территории санатория РККА |
|
11. |
Бронзовые семисвечные канделябры |
2 |
Там же |
|
12. |
Канделябры шестисвечные из светлого сплава |
4 |
Там же |
|
13. |
Диван большой, обитый шелком (сильно потертый) |
1 |
Там же |
|
14. |
Экраны каминные |
2 |
Там же |
|
15. |
Стол бронзовый, на крышке знаки зодиака |
1 |
Там же |
|
16. |
Полочка для фарфора или для бюста с разными фигурами драконов и льва |
1 |
Там же |
|
17. |
Светильник висячий с двумя чашками |
1 |
Там же |
|
18. |
Картины (акварель), размерами ок. 30 на 20 см. «Девушка за книгой», «Мальчик и девочка», «Море» |
3 |
Там же |
|
19. |
Стол старинный |
1 |
2-ой корпус Госкурорта |
|
20. |
Кресла старинные в стиле вышеназванного (№ 19) стола |
5 |
Поликлиника Госкурорта |
|
Итого |
39 предметов |
||
Считаю нужным отметить, что большинство перечисленных мною вещей хранится в недопустимых условиях (в сырах складах с протекающей крышей), которые приводят эти ценные для нас вещи к преждевременной порче.
Отмечаю также, что все эти вещи (в подавляющем большинстве) не используются дирекцией и не могут быть использованы ими в силу антикварного значения этих предметов» [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 5, лл. 110–110 об.].
Цитированный документ стал очередной попыткой Позднякова повлиять на обстановку вокруг музея, заручившись поддержкой правительства – Председателя Совета народных комиссаров Крыма М. И. Ибрагимова и управделами СНК С. Рагацкина [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 5, лл. 106 об., 109 об.]. При этом отмечу, что никаких «ответных» документов в архиве не найдено. Потому Поздняков был убежден, что для лучшего развития музея необходимо «форсировать» его подчинение «на правах филиала Центрального Пушкинского музея Институту мировой литературы Академии Наук».
Кроме того, считал он, необходимо «помочь музею в научно-консультативном руководстве» и «предоставить руководящему составу музея возможность пройти соответствующие курсы музейных работников» [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 15, лл. 29–39]. Наркомпрос РСФСР проводил в Москве курсы повышения квалификации не только археологов, экскурсоводов, руководящих музейных работников, но и инспекторов Отделов народного образования, Народных комиссариатов просвещения. Извещения об организации работы курсов в столице постоянно рассылались в Наркомпросы регионов [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 4, лл. 34, 42, 101, 102, 124, 125, 129, 144, 149, 158, 171].
Составленные Поздняковым документы и предпринятые шаги характеризуют его как человека умного, инициативного, чрезвычайно работоспособного, с опытом организаторской работы. Сохранился важный партийный документ этого периода: на заседании партийного бюро Ялтинского райкома ВКП(б) 21 октября 1939 г. А. В. Поздняков, член ВКП c 1917 г. (п/б № 0001163), был утвержден секретарем территориальной партийной организации при Гурзуфском сельском совете[1] [10, П-83, оп. 1, ед. хр. 165, л. 184]. Это безусловное следствие того, что за несколько месяцев Поздняков сумел завоевать авторитет в Гурзуфе, становился известным в Ялтинском районе человеком.
Меняется и положение музея, делу музея начинают сочувствовать, помогать и ялтинское начальство, и Гурзуфский сельсовет, и жители Гурзуфа.
Итоги 1939 года
Заканчивался 1939 год, нелегкий в нашей истории.
27 февраля 1939 г. умерла после тяжелой болезни заместитель наркома народного просвещения РСФСР Н. К. Крупская, много сделавшая для музейного дела, «чтобы краеведческий музей был таким культурным центром, без которого нельзя было бы обойтись» [15, с. 12].
В это же время страна готовилась к проведению XVIII съезда ВКП(б), состоявшемуся 10–21 марта 1939 г.
Именно тогда А. В. Поздняков начинает свою работу в Пушкинском музее, и этапы его работы, решения и действия мы могли проследить по приведенным документам Крымского архива. Для музея Поздняков сделал много, но еще больше предстояло сделать, а планы у него были. Отчет о проделанной за 10 месяцев работе в Гурзуфском музее в конце года он посылает в Наркомпрос РСФСР. Приведем документ полностью; он отражает процесс реставрации всех направлений деятельности музея. Допущенные Поздняковым непринципиальные неточности не исправляем.
«Отчет Пушкинского музея в Гурзуфе за 1939 год
Пушкинский музей был организован к 100-летию памяти великого поэта в июне 1938 г. по инициативе колхозников Гурзуфского колхоза им. Осоавиахима. Эта инициатива, будучи поддержана решением СНК КрымАССР, привела к созданию выставки, посвященной памяти великого поэта, а затем к организации музея на базе выставки.
Пушкинский музей создан в доме, построенном в 1811 г. новороссийским генерал-губернатором герцогом Ришелье, в котором в 1820 г. во время южной ссылки с семьей генерала Раевского останавливался и провел около трех недель великий поэт.
Сам дом, расположенный в старейшем на Южном берегу парке, представляет из себя еще хорошо сохранившееся двухэтажное, сложенное из крымского камня здание, которое состоит из 10 комнат с просторным вестибюлем и огромной застекленной верандой-галереей с видом на Пушкинскую скалу и генуэзскую крепость, а также Аю-Даг. 5 комнат (зал) верхнего этажа вполне пригодны для экспозиции. Комнаты же нижнего этажа нуждаются в переделке их под залы музея, тем более что этим не нарушается первоначальная структура нижнего этажа. За истекший год произведен капитальный ремонт дома.
Экспозиция музея вначале была представлена в 3-х залах, где на фоне жизни и творчества поэта отображен период южной ссылки с подчеркнутым выражением пребывания поэта в Крыму. К концу 1939 г. из материалов, хранившихся в фондах музея, а также из вновь приобретенных экспонатов удалось не только расширить экспозицию, но и открыть новый отдел “Пушкин в СССР”, тем самым освоив все готовые экспозиционные залы музея, подойдя к концу с оформлением вестибюля на тему “Сталинская Конституция”.
Раздел “Пушкин в СССР” разделен на: “Классики марксизма-ленинизма о Пушкине и о культурном наследстве”, “Пушкинский юбилей 1937 г.”, “Пушкин в советской печати”, “Пушкин в литературе народов СССР”, что удалось представить в сложной витрине, изготовленной на месте [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 5, л. 29].
Весь материал экспозиции музея, за исключением отдела “Пушкин в СССР”, размещен на 70 щитах и состоит преимущественно из плоскостного фотоиллюстративного выставочного материала, частью изданного Гослитмузеем, частью собранного местными организациями и смонтированного на месте научными сотрудниками Гослитмузея.
Имеющийся в музее объемный материал в виде картин представляет из себя дешевые копии с картин Айвазовского “Пушкин у скалы” и Репина “Пушкин на берегу Черного моря”, с картин Самокиша и т. д. Будучи исполнены крайне неряшливо и неумело, они не представляют из себя никакой художественной ценности.
За отчетный период музеем приобретен портрет А. С. Пушкина, копия с работы художника Кипренского; изготовлены и размещены тексты дат жизни и творчества поэта и с помощью Пушкинских альбомов издания Гослитмузея внесен материал в красках, чем достигнуто некоторое, правда, крайне незначительное освежение экспонируемого материала. Значительно расширен отдел “Пушкин в Крыму” за счет введения в экспозицию 6 новых щитов. Произведена разрядка всех щитов по всем разделам музея, с тем чтобы увеличить доходчивость экспонатов и быстрого схватывания посетителями центральной идеи щита. Музеем приобретены и введены в экспозицию хорошо выполненные копии автографов Пушкина, из которых многие имеют прямую связь с его <…> пребыванием в Гурзуфе. 20 таких автографов с 2 печатными изображениями размещены в специальные витрины. Наряду с этим, по заказу музея, в ближайшее время заканчиваются исполнением копии картины художника Брюллова “Бахчисарайский дворец”, портретов Н. Н. Раевского (старшего), Н. Н. Раевского (младшего), А. Н. Раевского, М. Н. Раевской, а также творческая картина “Приезд Пушкина в Гурзуф”, эскиз которой получил одобрение научных сотрудников Центрального Пушкинского музея и художника Соколова-Скаля.
Из скульптур в музее имеется 2 бюста поэта: работы Трубецкого и Витали, а также приобретена работа Кудряшовой, копия с Московского памятника поэту.
Скульптура Курбатова, изображающая Пушкина в кресле, за которую в свое время уплачено музеем 10 тыс. р. из стоимости 38 тыс. руб., изъята из экспозиции как извращающая облик поэта, передавая его в крайне искаженном выражении. Приобретены также бюсты Ленина и Сталина.
Пушкинский музей не имел ни одной книги Пушкина и о Пушкине. За отчетный период создана небольшая, но ценная библиотека в 116 книг, из которой по разделу Пушкиниана – 105 книг. Из периодической печати музей выписывал одну местную газету и ни одного журнала. За отчетный период музей выписал периодических изданий на сумму до 800 руб.
За отчетный период проведена работа по полной инвентаризации всех экспонатов, насчитывающихся в числе 1277, и хозяйственного инвентаря и тем введен порядок в учете всего материала. Работа проводилась на основе социалистического соревнования с Ялтинским музеем А. П. Чехова, с которым был заключен договор в 1939 г. Проверка выполнения договора Пушкинским музеем производилась специальной бригадой коллектива Чеховского музея, производственное совещание которого под председательством М. П. Чеховой вынесло следующее заключение по музею:
“Работа производится энергично, руководство музея инициативно и намечает ряд мероприятий, которые, несомненно, будут содействовать обогащению этого нового учреждения. Ряд мероприятий уже осуществлен”.
Приводим несколько замечаний из отзывов наших посетителей:
“Музей беден, но очень приятен сам факт открытия его в доме, где еще носятся тени Пушкина”.
“Если бы этот музей был еще беднее, то и тогда посещение его дорого и близко сердцу”.
“Здесь жил Пушкин. Это одно делает это место прекрасным, неповторимым, как сам Пушкин”.
“Дом среди природы невольно оставляет след в нашей памяти”.
“Музей следовало бы расширить”.
“Жаль, что нет обстановки”.
“Надо восстановить обстановку в домике того времени, когда в нем жил Пушкин”.
“Надо снабдить домик планом окрестностей: скала, кипарис и т. д.”
“Больше картин, но не Самокиша”, “Дайте лучшие копии”, “Дайте обстановку”, “Дайте хорошие картины” – это основные требования и совершенно справедливые к нашему музею. Дом передан музею совершенно пустой. Вся обстановка была тщательно изъята и часть ее еще сохранилась с Госкурорте Южного берега Крыма, в частности, скульптуры древнегреческих философов прекрасной работы, бывшие в этом доме. Несмотря на все попытки руководства музея к изъятию этого имущества через местные организации и Наркомпрос Крыма – этого не удалось. А пришлось приобрести их по балансовой стоимости. Таким образом музеем приобретены скульптура, несколько картин, канделябры, столики, экраны для камин<ов>, мебель из кресел, стульев и дивана. Но приобретенная обстановка нуждается в капитальной реставрации ее, без чего она не может быть выставлена. Из этой обстановки эпохи начала XIX века музей предполагает, после ее реставрации, организовать бытовую комнату» [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 5, лл. 29–31].
Прервемся и остановим внимание на том, что вместо тактики «изъятия» мебели и остальных предметов, бывших в до-музейное время в доме Ришелье, применен выкуп «по балансовой стоимости». Можно уверенно утверждать, что соответствующее решение крымских властей вызрело после настойчивых обращений Позднякова, и деньги на это были выделены. Бюджетная поддержка культуры приветствовалась государством; на XVIII съезде ВКП(б) отмечалось увеличение государственных ассигнований по бюджету на социально-культурные мероприятия с 5 839,9 миллионов в 1933 г. до 35 202,5 миллионов рублей в 1938 г., а период между XVII и XVIII съездами по своим результатам объявлялся «поистине периодом культурной революции» [3, с. 4].
Продолжим цитирование важного для музейной истории Крыма документа:
«Музей за истекший период обследовался замнаркомом КрымНКП т. Акимовым <Д. А.> и инспектором музейно-краеведческого отдела НКП РСФСР тов. Врочинской <К. А.>. Выводы этого обследования положены в основу работы музея на 1940 год. Помощь со стороны инспектора музеев КрымНКП, к сожалению, была настолько слабой, что даже не дает права говорить о ней как о помощи. Целый ряд вопросов (в частности, об изъятии обстановки, закреплении дома, помощь экспонатами из других музеев), которые ставились музеем, не только не продвигались, но даже оставались без ответа (видимо, речь идет об оставленной без ответа докладной записке Позднякова в Наркомпрос. – Л. О.). Научно-методическое руководство совершенно отсутствует, и не видно попыток его поставить, несмотря на обильные обещания на апрельском совещании директоров музеев со стороны председателя научно-методического совета тов. Чукина.
Музей, помимо инспектуры НКП Крыма, связывался в части оснащения экспозиций с Керченским, Феодосийским музеями, где мы не имели отказа в помощи нам, чего не удалось достигнуть музею при связи с Центральным краеведческим музеем Крыма, где имеется ценный объемный материал, который без какого бы то ни было ущерба мог быть передан нам. Руководство музейно-краеведческого отдела НКП РСФСР за отчетный период, помимо письменных указаний, выразилось в личном посещении музея инспектором тов. Врочинской» [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 5, лл. 31–32].
Приостановимся, чтобы пояснить сетования Позднякова на коллегиальные противоречия работников музеев. Вопросы тематического «разделения» музеев нередко становились препятствием для их взаимодействия и профессионального сотрудничества, проявлением недоверия, неуверенности, что вредило краеведению. Именно это имел в виду ученый-этнограф Ф. Я. Кон (с 1933 г. – заведующий музейным отделом Наркомпроса РСФСР), когда в передовой статье «Музеи за двадцать лет» журнала «Советский музей» писал об «уточнении профиля музея»: «В определении более точного профиля музейный работник обязан найти в себе мужество, чтобы изъять из фонда музея те коллекции, которые данному музею не нужны и которые должны быть (с соответствующим оформлением) переданы в другие музеи». «Перераспределение фондов» для «более целесообразного использования» есть следствие понимания каждым работником «общегосударственного значения» музейного дела [16, с. 8].
Возвратимся к годовому отчету А. В. Позднякова:
«Научно-исследовательская работа
- Разработаны 2 методразработки лекций-экскурсий по музею: одна для детей старшего возраста, другая – для взрослых.
Разработан тематический план новой экспозиции музея, которую решено произвести в 1940 г. План состоит из следующих разделов:
1-й раздел. – Детство и юность Пушкина; сближение с дворянскими революционерами; вольные стихи Пушкина (1799–1820).
2-й раздел. – Ссылка на юг – Екатеринослав, Кавказ, Восточный Крым.
3-й раздел. – Ссылка на юг. – Пушкин в Гурзуфе.
4-й раздел. – Ссылка на юг. – Путешествие Пушкина по горному Крыму.
5-й раздел. – Ссылка на юг. – В Кишиневе и Одессе.
6-й раздел. – Ссылка Пушкина в Михайловское; жизнь под надзором полиции в годы николаевской реакции; трагическая гибель поэта.
7-й раздел. – Литературное наследство Пушкина в Советском Союзе.
План получил общее одобрение в Пушкинском музее в Москве, где он просматривался. Отдельные замечания, сделанные московскими товарищами, учтены при переработке плана, которая уже закончена.
- Разработана “Летопись Пушкинского дома в Гурзуфе” (выделено мною. – Л. О.), которая будет введена в экспозицию в 1940 году. Летопись охватывает наиболее значительные события в истории дома <…> по момент открытия в доме (по требованию гурзуфских колхозников) музея великого поэта. Иллюстрированная “Летопись Пушкинского дома в Гурзуфе” дает посетителю исчерпывающие сведения: 1) об истории постройки дома, 2) первоначальной архитектуре здания, 3) характере последующих перестроек, 4) истории создания музея 5) о всех замечательных людях России и Запада, останавливавшихся в Пушкинском доме или посещавших его.
- Научные командировки.
За 1939 год проведено 2 научные командировки – в Керчь и Феодосию. Цель командировок – изучение маршрута Пушкина по Крымскому побережью в 1820 г. и собирание материалов о пребывании великого поэта в Керчи и Феодосии.
Результаты командировки в Керчь. Известно, что посещение Керчи вызвало у Пушкина исторические воспоминания о Пантикапее и об эпохе Митридата. В письме к брату от 24. IX. 1820 г., в письме к Дельвигу от декабря 1924 г., в странствиях Евгения Онегина (1829 г.) – проявляется длительный и глубокий интерес Пушкина к этой эпохе и описываются посещения поэтом г. Митридат и Золотого холма. Поэтому было важно познакомиться с состоянием этих мест.
- Осмотрены: г. Митридат с креслом Митридата, Золотой холм, развалины Пантикапеи, церковь VI в. нашей эры – единственное сохранившееся здание на территории бывшей турецкой крепости, где (в крепости), вероятно, останавливался Пушкин.
- При содействии Керченского исторического музея собран фотодокументальный материал о Керчи пушкинских времен и о немых свидетелях пребывания Пушкина в Крыму (Митридат, кресло Митридата, развалины Пантикапеи, Золотой холм, турецкая крепость в Керчи, Керчь в начале XIX века, Керчь 1840-х годов XIX в., базар в Керчи и друг.).
- Работники Керченского исторического музея приступили к отбору для нашего музея некоторых археологических материалов, характерных для эпохи Митридата. Введение их в экспозицию нашего музея оправдывается тем интересом, которое Пушкин проявил к сокровищам Пантикапеи, скрывающимся под землею.
- При посещении Горархива установлено, что весь архивный материал, имеющий отношение к первой половине XIXв., вывезен в исторический архив г. Симферополя.
Результаты командировки в Феодосию. Воспоминания Пушкина о Феодосии вращаются вокруг личности семена Михайловича Броневского, “человека почтенного по непорочной службе и по бедности. Теперь он под судом – и подобно старику Вергилию, разводит сад на берегу моря, недалеко от города… Он не ученый человек, но имеет большие сведения о Крыме, стране важной и запущенной” (Письмо к брату от 24. IX. 1820). Поэтому главной целью командировки <…> было собирание материалов о Броневском.
- Ознакомление с Горархивом показало, что все материалы о пушкинской эпохе и Броневском вывезены в Симферополь. Не удалось найти и иконографических материалов о Броневском. Тем не менее поездка в Феодосию оказалась успешной в том отношении, что в архивах Исторического музея было найдено дело с перепиской по поводу конфликта Броневского с городской думой. Как известно, в результате этого конфликта (вследствие доносов феодосийских богачей – отцов города) Броневский был уволен с должности градоначальника и отдан под суд (о чем говорит Пушкин в письме к брату от 24. IX. 1820 г.). Один документ из этого дела – ответ Броневского по поводу противодействия думы при отводе земли поручику Туманову (от 12 мая 1811 г.) передан нашему музею.
- При содействии Исторического музея были заказаны художественные копии с картин и рисунков, изображающих Феодосию пушкинских времен (с акварели неизвестного художника, с рисунка Кюгельхена, с литографии Кленова, с плана Феодосии 1817 г.).
Командировка в Симферополь, продолжавшаяся 9 дней.
Цель командировки – изучение материалов Крымархива, имеющих отношение к пребыванию Пушкина в Крыму, а также характеризующих эпоху и окружение Пушкина в Крыму.
- Известно, что Пушкина очень живо интересовало греческое восстание. В течение почти всей южной ссылки он вел дневник греческого восстания. Поэтому мы обратили внимание на найденные в фонде Таврического губернатора дело № 164 «Переписка по предмету возмущения греков против турок».
Бумаги этого дела показывают, что, во-первых, правительство отнеслось к греческим повстанцам как к опасным революционерам, нарушающим порядок в Европе; во-вторых – правительство приняло меры против сочувствия и помощи повстанцам со стороны населения Крыма; в-третьих – среди некоторой части населения Крыма были люди, агитировавшие за помощь повстанцам денежными сборами и вступлением в отряды повстанцев.
- Из бумаг, непосредственно относящихся к путешествию Пушкина и Раевских по Крыму, найдены в деле № 294 “О путешествии разных знатных особ по Таврической губернии” а) предписание губернатора Баранова градским и земским полициям о даче под проезд по Южному берегу генералу Раевскому “с будущими при нем” “потребное число верховых и вьючных лошадей и оказывать всякое должное вспомоществование”, б) предписание от 17 августа 1820 г. губернатора Баранова исправляющему должность Феодосийского земского исправника о том, чтобы он распорядился “о безостановочном проезде и заготовлении потребного числа лошадей” для следования генерала Раевского на южный берег Крыма и чтобы выполнение этого было поручено “благонадежнейшему из заседателей”; в) ответ от 20 августа 1820г. исправляющего должность феодосийского исправника заседателя Карпенко губернатору Баранову с сообщением об отплытии генерала Раевского “из Феодосии на брандвахте морем до Севастополя”.
Все три документа имеют чрезвычайно важное значение для установления хронологии путешествия Пушкина по Крыму, а также судна, на котором Пушкин плыл в Гурзуф. В своей статье “Память о Пушкине в Гурзуфе” (“Пушкин и его современники”, вып. VII—VIII) Бертье-Делагард упоминает только 2 из этих 3-х документов, не приводя полностью их содержание.
- Интерес представляет и подорожная супруги генерала С. А. Раевской “с будущими”, выданная 2 октября 1820 г. для проезда от Севастополя до Симферополя. Подорожная доказывает, что семья Раевского еще некоторое время (после отъезда Пушкина) находилась в Крыму. Отметка на подорожной свидетельствует, что С. А. Раевская получила подорожную до Киева 5 октября 1820 г. Подорожная Раевской определенно доказывает ошибку М. Н. Волконской и Е. Н. Орловой, рассказывавших позже, что они выехали из Крыма одновременно с Пушкиным. Вместе с тем она свидетельствует о том, что сам генерал Раевский выехал из Крыма несколько раньше своей семьи.
- Особый интерес представляют 3 подорожные, выданные в разное время “жандармского полка рядовому Черникову”:
а) Выданная 12 августа 1820 г. в Киеве подорожная гласит: “От Киева до Симферополя и далее, вслед за господином генерал от кавалерии Раевским и обратно отправленному к его высокопревосходительству с самонужнейшими бумагами жандарму Черникову из курьерских давать по две лошади…”.
б) Текст другой подорожной, выданной 15 сентября 1820 г. : “От Симферополя до Киева и обратно жандармского полка рядовому Черникову, следующему по казенной надобности с будущими, давать из почтовых по две лошади…”
в) Текст третьей подорожной, выданной 24 сентября 1820 г.: “От Симферополя до Севастополя и обратно жандармского полка рядовому Черникову с будущими по казенной надобности давать из почтовых по три лошади…” На этой последней подорожной есть отметка о выдаче Черникову подорожной до Киева (дата выдачи отсутствует).
Разъезды Черникова между Киевом и Симферополем чрезвычайно любопытны. Трудно установить истинную цель его поездки в Крым, но нам кажется странным, что к генералу Раевскому посылается не офицер или рядовой его корпуса, а не состоявший в его подчинении жандарм. Это показывает, что Черников приезжал не по делам корпуса Раевского, а по каким-то другим конфиденциальным вопросам. Подорожная, выданная ему 15-го сентября, говорит о том, что Черников уезжал из Крыма не один, что он сопровождал кого-то. Кроме того, дата отъезда Черникова вполне согласуется с предположительным временем выезда Пушкина из Симферополя (если отправляться от времени приезда Пушкина в Кишинев, т. е. 21 сентября 1820 г., и положить на поездку от Симферополя до Кишинева 5–6 дней спокойной езды, то мы как раз придем к 15–16 сентября как к дате отъезда Пушкина из Симферополя). Конечно, эти данные недостаточны для утверждения, что Черников приезжал в Крым за Пушкиным, но они побуждают нас к дальнейшим поискам материалов и доказательств, которые бы внесли ясность в загадочную поездку жандарма Черникова в Крым.
- Для историка литературы, для историка русской общественной мысли небезынтересны подорожные, выданные в том же 1820 году Ивану Матвеевичу Муравьеву-Апостолу и Никите Муравьеву. Результатом этого путешествия по Крыму явилась, как известно, книга Муравьева-Апостола “Путешествие по Тавриде в 1820 годе”. После прочтения этой книги и под впечатлением от нее Пушкин написал свое письмо к Дельвигу в декабре 1824 г., в котором вспоминал свое путешествие по Крыму.
Работа музея в Крымских архивах далеко не завершена. Наоборот, она только начинается. В 1940 году музей предполагает продолжить эту работу и уделить ей больше внимания, при условии отпуска соответствующих средств на научные командировки и на печатание научных результатов этих командировок.
Массовая политико-просветительская работа
Общее число посетителей: за отчетный период времени прошло организованных в группы экскурсантов: взрослых – 15264, учащихся – 607. Бесплатных и платных 4492. За 1939 год прошло: одиночек взрослых 9046 и учащихся 1436. За 1938 год соответственно: 7864.
А всего за 1939 год посетило музей 30 845. В 1938 г. (неполный год) – 17600.
Проведено лекций со взрослыми 240, учащимися – 146 и бесплатных 81, а всего 413.
Экскурсанты, посещающие наш музей, преимущественно те, что стекаются со всего Советского Союза в санатории, дома отдыха, туристические базы Крыма. Это лучшие передовые люди страны, стахановцы и ударники заводов, фабрик, колхозов, госучреждений; командиры, политработники и бойцы РККА и РК флота, студенчество, отличники средних школ, артековцы, ученые.
Артековцы в Музее А. С. Пушкина. На переднем плане, по всей видимости, скульптура работы Курбатова. Предположительно, 1938 г.
В начале этого года музеем были распространены извещения по всему Южному берегу Крыма о Пушкинском музее, помещены заметки в газетах “Красный Крым”, “Ударник” и “Курортной газете”.
Помимо этого, пушкинские места в самом Гурзуфе (кипарис, маслиновая роща, скала) были отмечены постановкой на них мемориальных досок с соответствующими выдержками из произведений поэта.
Это мероприятие отмечено и в обследовании тов. Врочинской (инспектором НКП РСФСР).
Для обслуживания одиночек нами введено дежурство экскурсоводов с целью консультирования их.
За отчетный период музеем была организована в избе-читальне выставка на 2 щитах, посвященная А. С. Пушкину.
В Шевченковские дни на большой террасе музея функционировала юбилейная выставка, состоявшая из 70 экспонатов на 8 больших щитах.
С 30. VIII по 12. IX. 1939 на территории и в одной из комнат музея была развернута выставка “Гурзуф в живописи”, на которой было представлено около 70 картин и рисунков московских художников В. Я. Фролова и Ю. В. Разумовской [35].
Музеем распространяются фотокарточки с видом домика и его окружения, картины Самокиша “Пушкин среди татар в Гурзуфе” и т. д., охотно приобретаемые экскурсантами.
Сведения о штатах
Директор музея – ПОЗДНЯКОВ Александр Васильевич. Зарплата 500 р. была и есть. Партработник. Образование среднее. Член ВКП(б) с 1917 г. Возраст 41 год. Стаж музейной работы 10 месяцев. Работает в музее с 1939 г.
Научный сотрудник – САТИРОВ Георгий Николаевич. Зарплата была и сейчас 400 руб. Специалист по физкультуре. Образование высшее. Б/п. Стаж музейной работы 11 месяцев.
СОМОВА Лидия Николаевна. Экскурсовод, зарплата 300 р. Плановик. Образование высшее. Б/п. Стаж музейной работы 6 месяцев. Работает в музее с 1939 г.
Наши пожелания
- Руководить музеем не как краеведческим, а как литературным, каким он и является.
- Помочь в организации экспозиции музея объемным материалом из живописи и скульптур, в максимальной степени сжав плоскостной материал, дав его в свежих красках, а не только фотоиллюстрации.
- ФОРСИРОВАТЬ передачу музея на правах филиала Центрального Пушкинского музея ИНСТИТУТУ мировой литературы Академии Наук.
- Помочь музею в научно-консультационном руководстве.
- Предоставить руководящему составу музея возможность пройти соответствующие курсы музейных работников.
Подпись Позднякова. Печать музея.
[10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 5, лл. 32–40].
Упомянутые в отчете Позднякова инспекции от НКП РСФСР К. А. Врочинской прошли во всех крымских музеях в конце октября – начале ноября 1939 г., о чем сохранились документы, подписанные Врочинской 12–13 ноября [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 1]. Приведем выводы по результатам инспекции музея в Гурзуфе. И хотя это «взгляд со стороны», заметно, что ряд позиций и оценок инспектора совершенно совпадает с позициями директора музея (к примеру, оценка уже знакомой нам скульптуры Курбатова) и затрагивает наиболее острые вопросы, касающиеся развития музея. Однако К. А. Врочинская не поддержала идею сделать Гурзуфский музей филиалом Государственного музея А. С. Пушкина в Москве, предлагая вместо того организовать «шефство», увеличить помощь крымскому музею, «сделав его достойным имени великого поэта», но «не передавая <…> в другие организации»:
«Музей расположен в двухэтажном отремонтированном <…> здании, где жил в годы южной ссылки А. С. Пушкин. Верхний этаж – с большой галереей-верандой и 5-ю экспозиционными залами. На веранде скульптура из пластмассы работы Курбатова, которая, по отзывам специалистов – профессора живописи Одесского художественного училища тов. Крайнева и скульптора И. С. Ефимова, выезжавшего для экспертизы, – признана для экспозиции “не подходящей” и “внедряющей плохой художественный вкус”. Несмотря на эти заключения, скульптура до сих пор не убрана.
Экспозиция музея расположена в 4-х залах (верхнего этажа) исключительно на плоскостном материале. На фоне жизни и творчества А. С. Пушкина дан материал, относящийся к его южной ссылке. Экспозиция выставки построена <…> по типу выставок Гослитературного музея, при участии научной сотрудницы его тов. Любович <Н. А.>, с введением специальных альбомов “Пушкин и литературная среда”, “Путешествие из Петербурга в Москву”, “Пушкин и театр”, “Пушкин в Алуште”, “Бахчисарай”, “Пушкин у гр. Воронцова”, “Ссылка на юг” и др.
Однако экспозиция страдает:
а) отсутствием объемного материала;
б) недостаточной продуманностью отдельных щитов, где материал дан в очень большом количестве – с мало улавливаемой идеей щита;
в) бедностью, с внедрением в экспозицию зачастую плохо исполненных копий картин;
г) полным отсутствием мебели начала XIX века, достаточного количества витрин, круглых столов для альбомов.
Подготавливается к открытию 5-й экспозиционный зал “А. С. Пушкин в творчестве народов СССР”.
В нижнем этаже 5 комнат, которые начаты переоборудованием. Под экспозицией будет занято 4 зала и тут же большой кабинет научных сотрудников и директора.
Экспонатов собрано до 1200 экземпляров. Посещаемость от 500 до 3000 человек в месяц. За последние 2 месяца посещаемость резко упала, так же, как и спрос на лекции. Заслуживает внимания начинание музея о внедрении творчества А. С. Пушкина в массы – путем создания спецщитов с отрывками из произведений поэта.
Крымские руководящие организации и музейно-краеведческий отдел Наркомпроса РСФСР могут помочь музею А. С. Пушкина в Гурзуфе, сделав его достойным имени великого поэта, не передавая музея в другие организации.
- Музейно-краеведческий отдел (Наркомпроса РСФСР. – Л. О.) может организовать шефство Гослитмузея по примеру шефства над музеем М. Ю. Лермонтова в селе Тарханах, родине поэта, привлекши к делу создания хорошей экспозиции музея Государственный Музей А. С. Пушкина в Москве, Комитет по делам искусств, Государственный театральный музей и друг.
- При содействии секретаря Ялтинского райкома ВКП(б) тов. Меджитова и СНК КрымАССР возвратить из Управления Ялтинского Курорта увезенные из Гурзуфского Дома для различных санаторий: мебель, картины, канделябры, бюсты, часы, шкафы и друг.
- Необходимо Крымскому Наркомпросу создать специальную комиссию с включением в нее тов. Позднякова на предмет выделения мебели первой половины XIX века, портретов и друг. из фондов Центрального краеведческого музея Крымской АССР, которая после реставрации м. б. использована Пушкинским музеем в Гурзуфе, одновременно выявив и передав издания, относящиеся к А. С. Пушкину.
- Крымскому Наркомпросу необходимо выявить объемные экспонаты, картины, могущие быть выделенными из музеев Ялты, Керчи, войдя одновременно с соответствующим ходатайством в Комитет по делам искусств при СНК КрымАССР.
- Дом, где жил А. С. Пушкин, необходимо через Крымский СНК закрепить за музеем, предложив Госкурорттресту передать музею все планы и чертежи, необходимые для реставрации Дома.
- Указать Крымгосиздату на необходимость выделения Пушкинскому музею всей литературы, относящейся к А. С. Пушкину
Директору Пушкинского Музея в Гурзуфе тов. Позднякову предложено, наряду с устранением недостатков в экспозиции, больше внедрять в музей книжный материал:
- Ускорить создание <Общества> друзей музея А. С. Пушкина в Гурзуфе.
- Совместно с заведующим отделом народного образования принять меры к более широкому использованию Музея школами, особенно при прохождении программ по литературе.
- Включиться всему коллективу в чтение лекций о Пушкине, число которых совершенно недостаточно.
- Выехать в Москву (по спецвызову) для реализации мероприятий по шефству Центральных музеев и обсуждению вопроса о реэкспозиции музея.
Подпись: инспектор по музейно-краеведческой работе НКП РСФСР Врочинская [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 1, л. 54–54 об.]
После годового отчета Позднякова о работе музея в 1939 году из музейно-краеведческого отдела Наркомпроса РСФСР поступает заключение:
«Рассмотрев представленный Вами годовой отчет, Музейно-краеведческий отдел Наркомпроса РСФСР считает, что, судя по отчету, заслуживает особого одобрения научно-исследовательская работа Музея, особенно в части работы над архивами. Также надо отметить выставочную работу музея, которую, однако, в 1940 г. следует расширить, и массово-просветительскую работу, особенно в части организации передвижных выставок по колхозам Южного берега Крыма, организацию лекций вне музея.
Совершенно неудовлетворительной, по-видимому, следует признать работу музея со школой, если она не нашла своего отражения в отчете, за исключением упоминания числа учащихся, посетивших музей. Музей совместно с отделом народного образования должен организовать школьную комиссию, проведя работу в соответствии с формами и методами, рекомендованными Наркомпросом в специально изданном сборнике.
В плане работы музея учтите вышесказанное и после утверждения его в отделе народного образования пришлите музейно-краеведческому отделу. Желательно не позднее 30 марта с. г.
Подписи: Начальник музейно-краеведческого отдела НКП РСФСР А. <Д>. Маневский (подпись красным карандашом);
Инспектор Врочинская» [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 1, л. 56].1940 год
С учетом высказанных Наркомпросом РСФСР в 1939 г. оценок и замечаний А. В. Поздняков утвердил (10 июня) производственный план Пушкинского музея в Гурзуфе на 1940 год. В 1940 г. в Крыму готовились отмечать 20-летие установления советской власти. Планировались торжественные мероприятия, газеты печатали материалы под общей рубрикой «Навстречу славному 20-летию». Подготовка к празднику отражалась и в деятельности музея.
Производственный план музея очень конкретен. Лаконично, по пунктам прописаны популяризирующие музей мероприятия, поставлены конкретнее задачи по научной работе, для чего Поздняков посчитал необходимым «установить командировки в Москву и Ленинград для изучения опыта работы столичных литературных музеев». Кроме того, решено было усилить работу с учащимися гурзуфских школ и дважды в месяц «проводить занятия кружка юных друзей музея Пушкина», а для подготовки молодых кадров «выдвинуть из числа учащихся лучшего, успевающего товарища на экскурсовода».
Особое значение придавалось «массовой политпросветработе»; музей планировал принять в 1940 г. 36000 посетителей (организованных – 18000, школьников – 5000, одиночек – 13000). Этому должен был способствовать издательский план:
- Подготовить и издать альбом «Пушкинский Гурзуф» (срок: 1. VI. 1940).
- Подготовить материал к брошюре «Гурзуф прежде и теперь» (к X. 1940).
- Подготовить и издать справочник «Пушкинский музей в Гурзуфе» (срок: VIII. 1940).
- Подготовить ряд статей с результатами изучения крымских архивов (XI. 1940).
- Поместить 4 статьи в газетах о работе музея [10, Р-20, оп. 7, ед. хр. 16, лл. 67–70].
Приближалось 120-летие приезда Пушкина в Гурзуф. К этому событию Поздняков и его музейные сотрудники подготовились достойно, о чем рассказывает заметка в газете «Красный Крым» 3 октября 1940 г. «120-летие пребывания Пушкина в Гурзуфе. Сессия поселкового совета в Гурзуфе» (подписано: Добра У., Поздняков А.):
«На днях население Гурзуфа отмечало 120-летие со дня приезда великого поэта А. С. Пушкина в Гурзуф.
Этой дате была посвящена сессия поселкового совета, собравшаяся с местными колхозниками и общественными организациями, школьниками, а также отдыхающими в местных санаториях. Сессия состоялась в доме, где жил великий поэт во время южной ссылки в 1820 году и где сейчас создан музей А. С. Пушкина.
На сессии был сделан доклад “Пушкин в Крыму”. Принято решение о присвоении набережной Гурзуфа имени поэта. Сессия постановила также войти с ходатайством в Наркомпрос Крыма о присвоении имени А. С. Пушкина одной из местных средних школ. Помимо этого, сессия нашла необходимым запланировать на 1941 год сооружение памятника Пушкину в Гурзуфе.
После сессии состоялось художественное чтение произведений Пушкина, навеянных его пребыванием в Крыму. Стихи читали учащиеся средних школ Гурзуфа на русском и татарском языках.
В заключение участники сессии смотрели кинокартину “Чайковский”, слушали записанные в этом фильме отрывки из опер “Евгений Онегин” и “Пиковая дама”.
Жители Гурзуфа и отдыхающие в санаториях с большим интересом отнеслись к работе сессии. Сессия продемонстрировала глубокую любовь трудящихся нашей многонациональной республики к великому русскому поэту» [12, с. 4].
Трудно переоценить озвученные и поддержанные на сессии инициативы Позднякова, нацеленные на популяризацию пушкинской темы в Гурзуфе: о присвоении набережной Гурзуфа имени поэта, присвоении имени А. С. Пушкина одной из местных школ и, главнее, о сооружении памятника Пушкину в Гурзуфе. Как помним, в 1913 г. А. Л. Бертье-Делагард призывал поставить памятник поэту в Гурзуфе и Ялте. В 1940 г. это казалось вполне выполнимым.
В этом же номере «Красного Крыма» на второй полосе в рубрике «Цифры борьбы и побед», посвященной 20-летию советской власти в Крыму, приводилась яркая статистика: «В 1939 г. расходы на социально-культурные мероприятия выросли по сравнению с 1923/4 г. в 49,9 раз, а в 1940 г. они вырастут в сравнении с этим же годом в 52 раза».
В ноябре 1940 г. в Симферополе вышла книга «Советскому Крыму двадцать лет. 1920–1940». Представленные статистические данные по развитию просвещения и культуры таковы: расходы на народное просвещение в сравнении 1924 г. к 1940 г. увеличились в 40 раз, бюджет школ вырос в 25 раз; широко распространилась деятельность многочисленных культурно-просветительских учреждений (музеев, изб-читален, красных уголков, киноустановок, библиотек, «хат-лабораторий»), в частности, в 1940 г. в Крыму насчитывалось 24 музея [39, с. 315, 316].
Экскурсанты у Музея А. С. Пушкина в Гурзуфе. Май 1941 г.
Короткая, но такая успешная деятельность А. В. Позднякова в Гурзуфском музее А. С. Пушкина прервалась войной. С приближением немецких войск работа в музее остановилась. Семья Позднякова эвакуировалась. Сам он остался в Крыму и стал партизаном.
1941–1942 годы
…Прежде всего, обратимся к хранящимся в Государственном архиве Республики Крым уникальным партизанским документам, где зафиксированы даты и обстоятельства гибели крымских партизан. Есть здесь сведения и о гибели А. В. Позднякова. Приведем выписки из этих документов.
1). Сохранился «корешок» извещения о гибели А. В. Позднякова, отправленный семье.
№ в/ч 00125.
- II. 1943 г.
Левченко Антонине Михайловне.
г. Москва.
Наркомат Госконтроля РСФСР
Ваш муж Поздняков Александр Васильевич, боец, 1898 г. р., участник Великой Отечественной войны против немецко-фашистских оккупантов, ранее работавший в ялтинском районе, санатории “Харакс” в должности завкультчастью с окладом 800 руб. в месяц, в бою за Советскую родину против немецких захватчиков 7 июня 1942 г. умер <от ран>.
Похоронен ……(графа не заполнена. – Л. О.)
Настоящее извещение является основанием для возбуждения ходатайства о назначении пенсии.
Уполномоченный штаба в/ч № 00125 В. Булатов.
На оборотной стороне: Извещение послано т. Левченко.
Копия: Москва. Горсобес.
[10, П-151, оп. 1, кор. 3, ед. хр. 305. Корешки извещений на погибших и пропавших без вести партизан (на буквы «Л» – «Р»). Начато: 1944. Окончено: 1945. Л. 272–272 об.]
2). В полустершихся карандашных «Именных списках личного состава Ялтинского партизанского отряда 4-го района и Ак-Шеихского отряда» (начато 1942; окончено 1942 г.) под № 23 сохранились такие сведения:
«Поздняков Александр Васильевич, 1898 <г. р.>, член ВКП(б), русский, “Харакс”, секретарь партбюро. В РКК: служил, продотряд. Из рабочих, в Гражданской войне участвовал, в Белой армии не служил, репрессирован не был [10, П-151, оп. 1, кор. 43, ед. хр. 464, л. 8, 15].
На листе 27-м «Списка личного состава Ялтинского партизанского отряда» содержатся еще важные подробности, в том числе семейные: «Поздняков А. В., боец (2 взвод), служащий, “Харакс”, секретарь партбюро. Оклад 800 руб.» В графе «Кому доверяется получать зарплату» читаем: «Отцу, Позднякову Василию Ефимовичу. Воскресенск, Московской обл., д. Гостилово, 22»[2].
Подписи: Командир Великанов <П. П.>. Политрук Ермолаев Д. И.» [10, П-151, оп. 1, кор., 43, ед. хр. 464, л. 27, 31 об.].
Гурзуфский санаторий «Харакс» как место работы Позднякова (секретарь партбюро) назван, думается, в связи с закрытием музея Пушкина в начале войны и переходом Позднякова на партийную работу.
3). В списке убитых, умерших и пропавших без вести из Севастопольского партизанского отряда под № 183 записан Поздняков Александр Васильевич; умер 18. 04. 1942 г. [10, П-151, оп. 1, кор., 43, ед. хр. 461, л. 11 об.].
4). В «Списке умерших от истощения» в Ялтинском партизанском отряде с 12. 03. 1942 г. под № 35: Поздняков Александр Васильевич, умер 6. 06. 1942; «воспалительный процесс рожи обеих ног» [10, П-151, оп. 1, кор. 43, ед. хр. 459, л. 39].
Нельзя не заметить в документах расхождения в дате смерти А. В. Позднякова. В обстановке боевых партизанских действий и эвакуации это объяснимо. Дата 6. 06. 1942 является ошибочной. Верная дата – 18. 04. 1942 – в сведениях Севастопольского отряда[3]. Ей есть подтверждение и в книге партизанских воспоминаний И. Вергасова «Крымские тетради».
Илья Захарович Вергасов (1914–1981) с 1932 г. служил в военно-воздушных войсках, но по состоянию здоровья вышел из армии и, поселившись в Крыму, работал старшим механиком в совхозе «Гурзуф»; здесь близко познакомился с Поздняковым.
Осенью 1941 г. с приближением оккупантов к Крыму создавались партизанские отряды; был создан и Алупкинский истребительный батальон (где Вергасов стал начальником штаба, а Поздняков комиссаром), влившийся позднее третьей партизанской группой в Ялтинский отряд. Вергасов вспоминал: «…Комиссар в своем сугубо штатском осеннем пальто, фуражечке, роговых очках. Поздняков не был похож на военного человека. Движения его медленные, осторожные, голос тихий, мягкий. “Трудно будет ему партизанить”, – подумал я, наблюдая за ним» [4, с. 14].
Крым разделился на партизанские районы. Четвертый район (леса Бахчисарайского, Ялтинского и частично Куйбышевского районов) соединил Ялтинский, Ак-Шеихский, Ак-Мечетский, Бахчисарайский, Куйбышевский и Красноармейский отряды, и начальником штаба 4-го партизанского района с ноября 1941 по январь 1942 г. был назначен И. Вергасов, а с января 1942 по июль 1942 г. он стал командиром 4-го партизанского района Крыма.
«Крымские тетради» И. Вергасова полны и трагизма, и гордости за товарищей-героев. Тяжелейшим периодом для партизан стали зима и весна 1942 г.; партизаны страдали от голода, холода, ран, но сражались. О подвиге и гибели А. В. Позднякова, больного и истощенного, Вергасов рассказал подробно.
В апреле 1942 г. в партизанском лагере приземлился посланный из Севастополя для связи с отрядом самолет У-2, но при посадке в горах сломался винт. Кто-то вспомнил, что внизу, ближе к Севастополю, лежал сбитый У-2 с уцелевшим винтом. К самолету решили послать группу, возглавил группу Поздняков:
«Поход за винтом – страница незабываемая. Яйла лежала на пути. Снег сошел с лысых вершин, но в буераках он был предательски опасен. Мокрые насквозь, усталые до полного изнеможения, партизаны спустились к Чайному домику. За двое суток излазили чуть ли не весь второй эшелон фашистов, наконец нашли самолет, без инструментов <…> сняли винт с оси…
Они спешили. Поздняков все торопил и торопил, не давал никому отдыха и сам не отдыхал. Он шатался от слабости, но шел, наравне со всеми нес тяжелую ношу. Шел до тех пор, пока не упал. Его подняли на руки.
– Несите винт… Я вам приказываю. Я доползу. Обязательно доползу. Вперед!
Он не дополз. Умер. Посланные ему на помощь люди принесли в лагерь заледеневшее тело.
Были у нас в Крыму герои легендарные, слава о них гремела. Позднякова же мало кто знал. Он не совершал громких подвигов, был тих, физически крайне слаб… Но когда потребовалось, он напряг все свои силы и не остановился перед выбором: жизнь или смерть. Пошел на смерть во имя жизни [4, с. 117–119].
Винт был доставлен. Но самолет, взлетев, сразу упал…
«Прощай, мой земляк гурзуфец! – писал И. Вергасов. – Останусь жив, непременно буду приходить на дачу Раевских (ошибка: имеется в виду дом Ришелье, где располагался музей Пушкина. – Л. О.), вспоминать тебя, Человека, с которым судьба счастливо свела меня в тяжелую годину…» [4, c. 118]
Не могу не процитировать и грустных строк о А. В. Позднякове из замечательной статьи нашего старшего современника Виктора Галкина «Взрывать – или отдать врагам?», опубликованной в «Крымском эхе» 21. 06. 2019 г.: «Но о красном комиссаре <…> яркого фильма сегодня никто делать не станет <…>. Музей А. С. Пушкина еще раз открылся решением Крымского облисполкома 4 июня 1989 года. Только портрета первого директора Александра Васильевича Позднякова, сложившего свою голову в Ялтинских горах, там не найдете. Я послал им неизвестные фотографии и материалы. Может быть, выставят к 75-летию Победы и восстановят память о герое-партизане…» [8]
В распоряжении В. Галкина (Виктора Александровича Галушкина, 1940–2020) подлинные документы и фотографии. Поэтому убедительной видится догадка В. Галкина: с переездом в Крым и назначением на должность директора музея больному товарищу помогли друзья по совместной дальневосточной работе Александр Галушкин и мужественный человек Павел Надинский (известный очерками о крымской истории [22]), ставшие в 1937 г. секретарями Симферопольского горкома партии. Они смело могли положиться на его честность, преданность делу.
О работе Позднякова на Дальнем Востоке упомянул И. Вергасов, рассказывая о знакомстве с Поздняковым в Гурзуфе:
«Он был старше меня лет на пятнадцать и в сто раз опытнее. За плечами большая партийная работа в Сибири, до этого – гражданская война, потом борьба с басмачами. Одним словом, живой герой близкой истории.
По молодости своей я не мог согласиться с тем, что героическую биографию красного комиссара гурзуфцы не знают, и стал при удобных случаях рассказывать о ней своим ребятам – ведь я же был агитатором цеха.
Поздняков как-то узнал об этом, сказал сердито: “Прошлое хорошо, но не самое главное. Важно, что ты сейчас делаешь”» [4, c. 117].
Из прошлого: детство и юность А. В. Позднякова
Что известно сегодня из прошлого Позднякова? О его работе до приезда в Крым? О его детстве и юности? Можно ли что-то установить? Оказалось, что можно.
Некоторые факты из жизни Позднякова узнаем из хранящейся в Государственном архиве Российской Федерации документации Журнально-газетного объединения (Москва), куда в 1937 г. он был принят на работу и при оформлении заполнил Карточку партийного учета и Личный листок по учету кадров.
В Карточке партийного учета сведения такие: Поздняков Александр Васильевич. Родился в Московской обл. в 1898 г., из крестьян. Образование: окончил с/х училище в Рязанской губ. в 1916 г.
На вопрос: «Где, кроме учебного заведения, получил специальную подготовку», Поздняков отвечает: «самообраз<ование>». Иностранных языков не знает. Профессия – партработник. В графе «Место и адрес последней службы, должность или оклад» ответ: «Наро-Фоминский РК, секретарь РК».
Стаж работы по специальности – 14 лет. Состоит членом профсоюза Рабпрос с 1918.
На партийном учете состоит в Наро-Фоминском РВК; член ВКП(б) с 1917 г. Женат, ребенок.
Ко всем, оформляющимся в Журнально-газетное объединение (Жургаз), анкетой предусмотрен вопрос: «Кому известен из сотрудников Журнально-газетного объединения по прежней службе или кем рекомендован». Поздняков отвечает, что рекомендован «тов. Генкиным, редактором ЖЗЛ; послан ЦК ВКП(б)». Родственников в Журнально-газетном объединении «никаких» нет.
Личный адрес: Крекшино, Московской обл., совхоз НКВД, дача № 6.
Точность данных подтверждена личной подписью Позднякова [11, Ф. А-299, оп. 1, ед. хр. 702, л. 2][4].
Из Личного листка по учету кадров приведем лишь данные, которых нет в Карточке партучета. При этом потребуется небольшой исторический комментарий к однословным ответам (часто с сокращениями слов) на анкетные вопросы Личного листка, чтобы понять некоторые повороты в детской и юношеской судьбе Позднякова:
Родился в октябре 1898 г. в крестьянской семье; основное занятие родителей – колхозники.
- «Партстаж с 1917 г.; № партбилета 0001163. В иных партиях и оппозиции не состоял. Состоял в ВЛКСМ с 1918 по 1923 г.» Т. е., в комсомол вступил позже, чем в партию? Отметим это противоречие и попытаемся объяснить его позже.
- В графе об образовании: «Образование специальное среднее: окончил церковно-приходскую школу Коломенского уезда Московской губ. (1908–1910), затем сельскохозяйственное училище Рязанской губ. Сапож<ковского> уезда (1913–1916), специальность – агроном».
- О начале трудовой деятельности: работал «рабочим-учеником пошивочного цеха на фабрике Кацепова (текстильной) Коломенск<ой> ч<асти> Московской губ. – с конца декабря 1910 г. по начало января 1912 г.». Т. е., начал работать с 12 лет – на крупном предприятии «Товарищество мануфактур Тимофея Кацепова и сыновей».
- В 1912 г. Поздняков уехал в Москву; с января по август 1913 г. (7 мес.), работал в конторе объявлений курьером. Видимо, здесь узнал о сельхозучилище в имении Песочня Рязанской губ. (точное название – Низшее сельскохозяйственное училище в Песочинском казенном имении Рязанской губернии). Это бывшее имение известного славянофила А. И. Кошелева; расположено на берегах реки Песочинка; прекрасный дом, сад, хозяйственное устройство имения. В 1913 г. 15-летний Поздняков поступает сюда учиться и остается в Песочне 3 года. Наверное, именно здесь и появились возможности для «самообразования», о котором пишет он в Листке по учету кадров [11, Ф. А-299, оп. 1, ед. хр. 702, л. 1 об.].
- На вопрос в Личном листке о пребывании за границей Поздняков отвечает: «В Харбине (КВЖД) <в> 1923 по инструктированию нелегальных комсомольских организаций» [11, Ф. А-299, оп. 1, ед. хр. 702, л. 1].
Дальбюро
Резкий поворот в судьбе и деятельности Позднякова происходит сразу после революции. Он вступает в РКП(б) в 1917 г. и по поручению партии едет для работы с молодежью в Сибирь. Этим, кажется, объясняется замеченное противоречие: с образованием Коммунистического Союза молодежи в 1918 г. Поздняков, будучи членом партии, становится и «комсомольцем», а потому ближе и понятнее своим сверстникам, тем более в качестве комсомольского руководителя. «Друг и соратник моего отца (А. И. Галушкина. – Л. О.), – написал В. Галкин о Позднякове, – находясь в 20-х годах в Чите, руководил всем дальневосточным комсомолом от Забайкалья до Сахалина» [8].
Январский пленум Дальбюро ЦК ВРЛКСМ в Хабаровске. В первом ряду третий слева – А. В. Поздняков, во втором ряду четвертый слева – А. И. Галушкин
Работал Поздняков страстно, с убежденностью, с полной отдачей сил. В 1926 г. он опубликовал в Хабаровске свою книгу «У истоков: первые страницы истории юношеского движения на Дальнем Востоке». Это была одна из книг, изданных ИСТМОЛом – Комиссией по изучению истории Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи и юношеского движения в СССР. Талантливо и живо написанная, книга доступна всем, легко и с интересом читалась, тем более что содержание ее – ряд небольших историй из жизни молодежи 1920-х годов. В небольшом издательском предисловии, составленным Дальневосточным бюро ИСТМОЛа [31, с. 5–9], сказано и «несколько слов об авторе» (сохраним характерное для того времени написание):
«Шурка Поздняков хорошо известен Сибирским и Дальне-Восточным комсомольцам. С 1921 г. до 1925 г. он непрестанно стоял во главе всего движения, являясь не только секретарем Дальбюро ЦК Союза, но и близким товарищем многих и многих комсомольцев. В самое тяжелое для нашей организации «склочное» время он во многом способствовал установлению последовательной твердой линии работы. Его исключительно холодное спокойствие, а, подчас, и резкость, кое-кому пришлась не по нутру. Тем лучше! Именно такой – выдержанный, спокойный твердый, Шурка Поздняков.
А. В. Поздняков. Портрет из книги «У истоков» [31].
Будем надеяться, что и Поздняков, и другие старые Дальне-Восточные работники примут в дальнейшем участие в развиваемой нами работе по сбору истории далекой окраинной комсомолии» [31, с. 9].
Разумеется, опубликованная книга, подтверждающая и литературные способности Позднякова, его партийный авторитет, работоспособность, дали основание И. И. Генкину (кстати, тоже с большим сибирским прошлым) рекомендовать Позднякова в Жургаз. 16 июня 1937 г. Поздняков был принят на должность заместителя редактора в отдел ЖЗЛ. Но уже 9 сентября 1937 г. «освобожден от работы согласно личной просьбе» [11, Ф. А-299, оп. 1, ед. хр. 702, л. 1 об.]. Что произошло дальше?
Чтобы понять дальнейшее, следует учитывать, что Государственное Журнально-газетное объединение (Жургаз) находилось в ведении Наркомпроса РСФСР, и Устав Жургаза был утвержден Комитетом по делам печати при СНК РСФСР и Коллегией Наркомпроса (21 декабря 1931 г.) [40, с. 119–120]. Поэтому очевидно, что в Наркомпросе РСФСР Позднякова, работающего в Жургазе, хрошо знали. Если это был кто-то из знакомых по дальневосточной службе, то он не имел оснований сомневаться в способностях Позднякова и его преданности делу. Это мог быть Ширямов Александр Александрович (1883, Иркутск – 1955, Москва), один из руководителей борьбы за Советскую власть в Сибири; член Дальбюро РКП(б); в 1922–23 гг. член Сиббюро ЦК РКП(б), член Президиума Сиббюро ВСНХ. С 1925 г. – заместитель председателя Главполитпросвета, председатель Центрального бюро краеведения; руководил Высшими музейными курсами и Научно-исследовательским институтом краеведческой и музейной работы. А. А. Ширямов мог предложить слабому здоровьем Позднякову поселиться в Крыму и взять на себя работу по созданию музея в Гурзуфе.
В Крыму, как уже было сказано, работали надежные дальневосточные друзья. Поддерживаю уверенность В. Галкина, что «ошибался Илья Вергасов, когда писал, что Позднякова в Крыму никто не знал»: «Его хорошо знали другие бывшие забайкальские комсомольцы – первый комсомольский вожак Читы Павел Сарин и его жена Антонина – секретарь Севастопольского горкома партии, секретари Симферопольского горкома партии Александр Галушкин и Павел Надинский» [8]. Более того, есть сведения, что Поздняков уже в октябре-ноябре 1937 г. находился в Крыму и присутствовал на ноябрьском пленуме Крымского обкома, посвященного подготовке к предстоящим выборам в Верховный Совет СССР. «Симферопольский горком развернул широкую организаторскую работу <…>, – пишет В. Галкин. – Об этом Александр Иванович (секретарь Симферопольского горкома А. И. Галушкин. – Л. О.) докладывает пленуму Крымского обкома, а в прениях выступали Ф. А. Павлов (Ак Мечеть), С. А. Фритлинский (Фрайдорф) и А. В. Поздняков (Ялта), с которым по-дружески встретились впервые после расставания в Чите и Хабаровске» [7]. Заметим: А. И. Галушкин обрадовался, но не удивился; знал, что Поздняков уже в Ялте, ждал встречи.
Павел и Антонина Сарины. г. Чита.
Война подтвердила, что все дальневосточные товарищи Позднякова были героями. Павел Яковлевич Сарин (1901–1944) – политработник, участник обороны Севастополя; первый редактор газеты «Слава Севастополя» [19, 6].
Антонина Алексеевна Сарина (6. XIII. 1903 – 18. IX. 1997) – участница обороны Севастополя, с 1934 г. – секретарь горкома ВКП(б) Севастополя по промышленности, секретарь парткома Главвоенпорта; до 1950 г. – заместитель начальника Управления по восстановлению Севастополя, почетный гражданин Севастополя [13].
Александр Иванович Галушкин (1903 – 7 мая 1942, Евпатория) – военный контрразведчик Черноморского флота, батальонный комиссар, участник Евпатрийского десанта. Именем А. И. Галушкина названа улица в Евпатории, где 7 мая 2017 г. открыта мемориальная доска [7, 9].
Добавим имя А. В. Позднякова в список его друзей, бывших комсомольцев-дальневосточников, членов Дальбюро – героев, погибших в Крыму:
Александр Васильевич Поздняков (октябрь 1898 – 18 апреля 1942) – директор Пушкинского музея в Гурзуфе (1939–1941), крымский партизан. Место захоронения не известно.
После войны
Посетивший Гурзуф вскоре после освобождения Крыма Л. С. Соболев писал, что «Дом в Гурзуфе, в котором жил Пушкин, разграблен»: «В комнатах музея – грязные следы румынского постоя, наспех брошенные вещи, отвратительное белье, воняющее из угла, и на пороге – следы костра. Жилье не чище конюшни…» [37].
После войны в Пушкинском доме в Гурзуфе находился дом отдыха. Но, по решению Президиума Академии Наук СССР (1946 г.), и за дачей, и за прилегающим к ней парком сохранялся мемориальный характер, связанный с пребыванием здесь Пушкина в 1820 г. [11, Ф. Р-9542, оп. 1, ед. хр. 132], что и спасало здание от разрушения и сноса в середине 1980-х.
В 1989 г. здесь вновь открылся музей А. С. Пушкина.
[1] В тот же день, 21 октября 1939 г., в Ялтинском райкоме следующим после утверждения А. В. Позднякова в новой партийной должности вопросом рассматривался вопрос о восстановлении в членах ВКП(б) Бирзгала Я. П.; «докладывали т. Галкин Г. Б. и приглашенные Чолбаш, Филимонов и Гавырин в присутствии т. Бирзгала Я. П. (1898 г. р., латыш, из служащих, чл. ВКП(б) с 1914 г., п/б № 0359219; партвзысканий не имел, работал директором Алупкинского дворца-музея). Решением бюро Ялтинского райкома ВКП(б) от 23. I. 1938 г. в связи с арестом органами НКВД тов. Бирзгал был исключен из рядов ВКП(б). 11. IX. 1939 г. тов. Бирзгал из-под стражи освобожден в связи с прекращением дела. Тов. Бирзгал подал заявление о восстановлении его в правах члена ВКП(б)».
Т. о., на 10-й день освобождения Бирзгала из-под стражи Ялтинский райком постановил «решение бюро Ялтинского Райкома ВКП(б) от 23. I. 1838 отменить, тов. Бирзгала в правах члена ВКП(б) восстановить» [10, П-83, оп. 1, ед. хр. 165, л. 184–185]. Это было следствием решений состоявшегося 10–21 марта 1939 г. XVIII съезда ВКП(б), требующего «оградить права членов партии от всякого произвола» [3, с. 2–5].
[2] Сведения об отце позволили нам установить, что у А. В. Позднякова был младший брат, Поздняков Василий Васильевич, 1907 г. р., майор ветеринарной службы, помощник Начальника Ветеринарного Отдела Забайкальского фронта; поступил на службу в 1931 г., в Великой Отечественной войне с 25. 07. 1941; окончил службу 26. 06. 1946 г. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (9. 05. 1945); Орденом Красной звезды (3. 10. 1945); медалью «За победу над Японией» (30. 09. 1945) [32].
[3] В июле 1942 г. Ялтинский партизанский отряд, где осталось 33 человека из 90, был объединен с Севастопольским и получил название Объединенный Севастопольский партизанский отряд. Командиром назначен М. Н. Зинченко.
[4] Далее ссылки на материалы ГАРФ в тексте в скобках.
[1] Халиль Джемилевич Кадыров, родился в 1905 г. в дер. Ускут (Приветное); крымскотатарский поэт, член Союза писателей СССР; погиб на фронте 26 января 1945 г.
[1]Пользуясь случаем, выражаю благодарность за помощь в поиске материалов Марии Юрьевне Галкиной, кандидату филологических наук, сотруднику Библиотеки-читальни имени А. С. Пушкина г. Москвы.
[2] Далее ссылки на материалы ГАРК в тексте в скобках.
References
- Aleksandrov A. Podgotovka k provedeniju Pushkinskogo jubileja [Preparations for the Pushkin Jubilee]. Pushkin: Vremennik Pushkinskoj komissii. 3. Moscow, Leningrad, 1937, рр. 492– 517.
- Bert’e-Delagard A. L. Pamjat’ o Pushkine v Gurzufe [Memory of Pushkin in Gurzuf]. St. Petersburg, printing house of the Imperial Academy of Sciences, 1913. 79 p.
- Velichajshij dokument nashej jepohi [The greatest document of our era]. Sovetskij muzej, 1939, no. № 3, pp. 2–5.
- Vergasov I. Z. Krymskie tetradi [Crimean notebooks]. Moscow, Sovetskaja Rossija , 1974. 448 p.
- Vrochinskaja K. A. Muzei Kryma [Museums of Crimea]. Sovetskij muzej, 1938, 5, pp. 30–32.
- Gazeta «Majak Kommuny» v period oborony Sevastopolja [The newspaper “Beacon of the Commune” during the defense of Sevastopol]. Slava Sevastopolja, 2017, December 14. Available from: https://slavasev.ru/2017/12/14/gazeta-mayak-kommunyi-v-period-oboronyi-sevastopolya (accessed 24.06.2024).
- Galkin V. Vam ne budet za nas stydno [You will not be ashamed of us]. Krymskoe jeho, 06.05.2017. Available from: https://c-eho.info/vam-ne-budet-za-nas-stydno/ (accessed 24.06.2024).
- Galkin V. Vzryvat’ ili otdat’ vragam? [Explode or give to enemies?]. Krymskoe jeho, 26.06.2019. Available from: https://c-eho.info/2019-06-20-15-38-09/ (accessed 24.06.2024).
- Galkin V. Zatmenie v Krymu [Eclipse in Crimea]. Krymskoe jeho, 13.11.2019. Available from: https://c-eho.info/zatmenie-v-krymu/ (accessed 24.06.2024).
- Gosudarstvennyj Arhiv Respubliki Krym (GARK) [State Archive of the Republic of Crimea], f. R-20, inv. 3, st. unit 25, sheet 7-7 ver.
- Gosudarstvennyj arhiv Rossijskoj Federacii (GARF) [State Archives of the Russian Federation], f. А-299, inv. 1, st. unit 702, sheet 2.
- Dobra U., Pozdnjakov A. 120-letie prebyvanija Pushkina v Gurzufe [120th anniversary of Pushkin’s stay in Gurzuf]. Krasnyj Krym, 1940, no. 228 (5938), october 3, p. 4.
- Zhizn’, otdannaja Sevastopolju [Life given to Sevastopol]. Slava Sevastopolja, 2003, august 6. Available from: https://slavasev.ru/2003/08/06/zhizn-otdannaya-sevastopolyu (accessed 24.06.2024).
- Kozlov V. F., Smirnova A. G. Dokumental’nye materialy po kul’turnomu naslediju Kryma v GARF. 1920–1930-e gg.: annotirovannyj arhivnyj spravochnik [Documentary materials on the cultural heritage of Crimea in the State Russian Federation. 1920–1930s: an annotated archival reference]. Moscow, Institut Nasledija Publ., 2021. 180 p.
- Komarova M., Vrochinskaja K. Nash ljubimyj rukovoditel’ [Our beloved leader]. Sovetskij muzej, 1939, no. 3, pp. 11–12.
- Kon F. Muzei za dvadcat’ let [Museums for twenty years]. Sovetskij muzej. Organ Muzejnogo otdela Narkomprosa, 1937, no. 9–10, pp. 4–9.
- Ljusyj A. P. Lokal’nyj tekst kul’tury v perspektive mezhkul’turnoj kommunikacii (na materiale krymskogo teksta i lichnogo opyta) [Local text of culture in the perspective of intercultural communication (based on the material of the Crimean text and personal experience)]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki, 2016, no.24 (765), pp. 98–108.
- Ljusyj A. P. Mestnoe znanie, samoopisanie i lokal’nyj tekst: sluchaj Kryma [Local knowledge, self-description and local text: the case of Crimea]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Serija «Istorija i filologija», 2016, vol. 26, no. 6, pp. 117–122.
- Mogila politrabotnika P. Ja. Sarina [Grave of political worker P. Ya. Sarina]. Pamjatniki Kryma. Available from: https://crimean-monuments.ru/monument/2400-mogila-politrabotnika-p-ya-sarina (accessed 24.06.2024).
- Musaeva U. K. Razvitie muzejnogo dela v Krymskoj ASSR (1921–1941): monografija [Development of museum affairs in the Crimean ASSR (1921–1941): monograph]. – Simferopol: Krymuchpedgiz Publ., 2013. 404 p.
- V. Est’ li v Gurzufe Pushkinskij muzej [Is there a Pushkin Museum in Gurzuf]. Krasnyj Krym, 1937, no. 82 (4890), april 10, p. 4.
- Nadinskij P. N. N. Tolstoj v Krymu [L. N. Tolstoy in Crimea]. Simferopol, Krymizdat Publ., 1948. 80 p.
- Nepomnjashhij A. A. Istorija i jetnografija narodov Kryma: bibliografija i arhivy (konec XVIII – nachalo XX veka) [History and ethnography of the peoples of Crimea: bibliography and archives (late 18th – early 20th centuries)]. Simferopol, Dolja Publ., 2001. 816 p.
- Nepomnjashhij A. A. Istorija i jetnografija narodov Kryma: bibliografija i arhivy (1921–1945) [History and ethnography of the peoples of Crimea: bibliography and archives (1921–1945)]. Simferopol, Antikva Publ., 2015. 936 p.
- Nepomnjashhij A. A. Muzejnoe delo v Krymu i ego starateli (XIX v. – nachalo XX v.): biobibl. issl. [Museum work in Crimea and its prospectors (19th century – early 20th century]. Simferopol, TNU im. V. I. Vernadskogo Publ. 358 p.
- Orehova L. A. V. Petuhov i ego ucheniki: B. L. Nedzel’skij [E. V. Petukhov and his students: B. L. Nedzelsky]. E. V. Petuhov (1863–1948): Materialy k biografii: kollektivnaja monografija. Simferopol, ARIAL Publ., 2019, pp. 214–259.
- Orehova L. A. Iz istorii krymskoj pushkinistiki: 1937 god [From the history of Crimean Pushkin studies: 1937]. Boldinskie chtenija 2018. Nizhnij Novgorod, 2018, pp. 217–226.
- Orehova L. A. «Pushkin v Krymu» B. L. Nedzel’skogo: k istorii knigi [“Pushkin in Crimea” by B. L. Nedzelsky: on the history of the book]. Pushkin i drugie (dvadcat’ let spustja): sbornik statej k 80-letiju Sergeja Aleksandrovicha Fomicheva. St. Petersburg, Izd-vo «Pal’mira Publ., Kniga po Trebovaniju , 2017, pp. 170–177.
- Pamjatnik Galushkinu Aleksandru Ivanovichu [Monument to Alexander Ivanovich Galushkin] Pamjatnye mesta Ivanovskogo rajona. Available from: https://amur-ivanovka.narod.ru/pamytniki/galushkin.htm (accessed 24.06.2024).
- Pozdnjakov A. Pushkin v Krymu [Pushkin in Crimea]. Krasnyj Krym, 1939, june 6, no. 128 (5340).
- Pozdnjakov A. U istokov. Pervye stranicy istorii junosheskogo dvizhenija na Dal’nem Vostoke [The first pages of the history of the youth movement in the Far East]. Khabarovsk, izd. Istmola DB CK RKSM Publ., 1926. 120 p.
- Pozdnjakov Vasilij Vasil’evich, 1907 g. r. [Pozdnyakov Vasily Vasilievich, born in 1907] Pamjat’ naroda. 1941–1945. Available from: https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer7712744/ (accessed 24.06.2024).
- Pozdnjakov N. N. Podgotovka i perepodgotovka kadrov [Training and retraining of personnel]. Sovetskij muzej. Organ Muzejnogo otdela Narkomprosa, 1937, no. 9–10, pp. 55–58.
- Pozdnjakov N. Praktikum pri central’nyh muzejah [Workshop at the central museums]. Sovetskij muzej, 1938, no. 5, pp. 35.
- Razumovskaja Ju. V. Frolov V. Ja. Katalog vystavki «Gurzuf v zhivopisi». Mosk. sojuz sovet. hudozhnikov [Catalog of the exhibition “Gurzuf in Painting”. Moscow Union of Soviet Artists]. Moscow, Iskusstvo , 1940. 16 p.
- Russkij jazyk v Krymu i «Russkij jazyk v polikul’turnom mire»: kollektivnaja monografija [Russian language in Crimea and “Russian language in a multicultural world”: collective monograph]. Simferopol, Izdatel’skij dom KFU Publ., 2024. 264 p.
- Sobolev L. (S.) Dorogami pobed. IV: Na Juzhnom beregu Kryma [Roads of victories. IV: On the Southern Coast of Crimea]. Pravda, 1944, no. 134 (9591), june 4, p. 3.
- Sobranie uzakonenij i rasporjazhenij… pravitel’stva RSFSR za 1931 g. № 40. St. 310. Kurortno-sanatornoe delo, 1931, № 6–7. Oficial’nyj otdel [Collection of laws and orders… of the government of the RSFSR for 1931. No. 40. / Art. 310. Resort and sanatorium business, 1931, No. 6–7. Official department]. Moscow, OGIZ (Sovetskoe zakonodatel’stvo) Publ., pp. 462–463.
- Sovetskomu Krymu dvadcat’ let. 1920–1940: Sb. statej [Soviet Crimea is twenty years old. 1920–1940: Collection of articles]. Simferopol, Krymgiz Publ., 1940. 320 p.
- Tancevova A. V. Zhurnal’no-gazetnoe obyedinenie Zhurgaz (1931–1938 gg.): k istorii sozdanija i funkcionirovanija [Magazine and newspaper association Zhurgaz (1931–1938): on the history of creation and functioning]. Gumanitarnye i juridicheskie issledovanija, 2021, no. 4, pp. 117–123.
- Filippov N. «Krasnyj Krym» [1937. “Krasnyj Krym”]. Krymskaja Pravda, 2017, April 6, pp. 3.
- Holin G. Muzej A. S. Pushkina v Gurzufe [Museum of A. S. Pushkin in Gurzuf]. Sovetskij muzej. Moscow, OGIZ – SOCJeKGIZ Publ., 1939, no. 4, pp. 30–32.