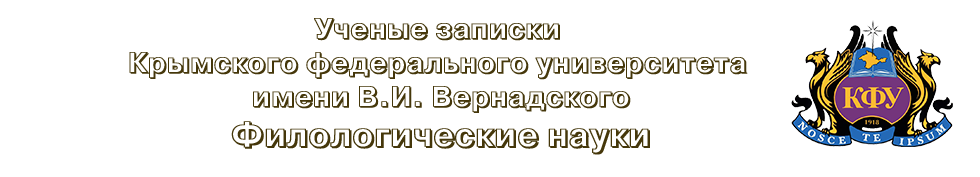THE PARADIGM OF «COLLECTIVE» NOUNS WITH SUFFIXES -NICK-, -NYAK-
JOURNAL: «Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philological sciences», Volume 11 (77), № 3, 2025
Publication text (PDF): Download
UDK: 811.161.1
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:
Chabanenko T. S., V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation
TYPE: Article
DOI: https://10.29039/2413-1679-2025-11-3-192-201
PAGES: from 192 to 201
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: noun, lexico-grammatical category, collectivity, suffix, plural, paradigm.
ABSTRACT (ENGLISH): The article examines the semantics and functioning features of one of the groups of nouns traditionally considered as collective. The problem of distinguishing lexico-grammatical categories of nouns determining their nature and boundaries has long attracted the attention of scientists. In the framework of modern research it is often considered from the point of view of the transition of words from one lexico-grammatical category to another. This is reflected in their grammatical properties, primarily in their ability to be used in both singular and plural forms. The object of the study is nouns with the suffixes -nyak-, -nick-, formed from words naming plants (trees, shrubs, and rarely herbaceous plants). It is noted that words with these suffixes are traditionally considered as collective in educational publications, specialized scientific papers, and lexicographic practice. At the same time, the analysis of functioning indicates that in many cases they have signs of specific nouns. To answer the question whether this is a manifestation of the concretization of the meaning of collective nouns in modern Russian, allows a consistent analysis of the use of such nouns, the principles of their lexicographic description, as well as their consideration in the context of hypo-hyperonymic relations.
ВВЕДЕНИЕ
Лексико-грамматические разряды имен существительных остаются категорией, привлекающей внимание многих исследователей. Традиционное, закрепленное в академических грамматиках и вузовских учебниках разграничение конкретных, абстрактных, вещественных и собирательных существительных на основании семантики и отдельных, не характеризующихся полной регулярностью грамматических различий получает в научных работах уточнение и дополнение. Так, исследования направлены на конкретизацию семантики лексико-грамматических разрядов, в том числе в философском, когнитивном осмыслении [1; 9; 18], их грамматических особенностей, в первую очередь употребления таких существительных в формах единственного и множественного числа [6; 8], на определение соотношения различных критериев выделения лексико-грамматических разрядов [7], на изучение явления переходности слов из одного лексико-грамматического разряда в другой [10; 12].
С точки зрения грамматической оформленности и своеобразной стабильности, т. е. несклонности к переходу из одного разряда в другой, особое место занимают собирательные существительные. Во-первых, это единственный лексико-семантический разряд существительных, большая часть слов которого имеет специфический словообразовательный показатель – суффикс со значением совокупности лиц или предметов. В ряде исследований наличие такого суффикса считается обязательным критерием собирательных существительных [13]. Во-вторых, в работах, посвященных изучению переходности существительных из одного лексико-грамматического разряда в другой, чаще всего анализируются абстрактные и вещественные существительные, развивающие конкретное значение. В аспекте собирательных существительных речь идет как правило не о переходе собирательных в другой лексико-грамматический разряд, а о совмещении в одном лексическом значении семантики собирательных и вещественных существительных («существительные вещественные, обозначающие однородную массу вещества, могут иметь собирательное значение (клюква, виноград, сахар)» [14, с. 460]). В-третьих, именно собирательные существительные реже других образуют формы множественного числа. Чаще всего вообще не упоминаются факты реализации у этих существительных полной числовой парадигмы, в то время как возможность вещественных и абстрактных существительных иметь формы множественного числа оговаривается не только в специализированных работах, но и в учебниках, грамматиках. Сравним, например, в «Русской грамматике»: «Отличительным признаком всех собирательных существительных является то, что они не образуют форм мн.ч.» [14, c. 462], «Вещественные существительные обычно употребляются или только в ед.ч., или только во мн.ч.» [14, с. 462], «Отвлеченные существительные обычно не имеют форм мн.ч.» [14, с. 462]. Упоминание о возможности собирательных существительных иметь формы множественного числа встречаем в работах Л. В. Калининой. При этом исследователь подчеркивает, что «они [собирательные существительные] наименее склонны к конкретизации и к употреблению в форме множественного числа» [8, с. 44]. Таким образом, особый интерес представляет изучение того, какие именно собирательные существительные и в каких условиях употребляются в формах множественного числа.
Следует помнить, что в отношении границ собирательных существительных, как и вещественных или абстрактных, ведутся дискуссии. Длительное время обсуждается статус непроизводных слов со значением множества, обычно употребляющихся только в единственном числе (посуда, мебель, хлам, хвоя, ботва, бакалея), только во множественном числе (кудри, финансы, хлопья), а также имеющих полную числовую парадигму (народ, группа, коллектив, стая, табун, куча). Чаще всего последние две группы к собирательным существительным не относят, потому что в них «собирательность представлена лишь как значение, не получившее грамматического выражения» [5, с. 39]. Ядро же этого лексико-грамматического разряда образуют слова, употребляющиеся в формах единственного числа, образованные с помощью определенных суффиксов от конкретных существительных, имеющих полную числовую парадигму: студент (студенты) – студенчество, брат (братья) – братва, мускул (мускулы) – мускулатура и др. Именно такое наиболее узкое понимание собирательных существительных дано А. А. Реформатским [13]. В более поздних исследованиях состав собирательных расширяется за счет суффиксальных производных, мотивированных прилагательными, например: молодой (молодые) – молодежь, бедный (бедные) – беднота, сырой (сырые) – сыр[jо]. Эти слова в современных работах также как правило относятся к группе собирательных singularia tantum. Поэтому особенно важно определить возможность или невозможность употребления в формах множественного числа суффиксально маркированных образований, представляющих ядро этого лексико-грамматического разряда.
Суффиксы, с помощью которых образуются собирательные существительные, в русском языке разнообразны. В «Русской грамматике» к таковым относят: —j— (бабье, тряпье), -н- (солдатня, ребятня), -иj— (братия, пионерия), -ик- (символика, методика), -няк- (дубняк, лозняк), -ур- (аппаратура, мускулатура), -ад- (аркада, колоннада), -в- (листва, татарва), -ар- (мошкара), -вор- (детвора), -ат- (пролетариат), -итет- (генералитет), -арий (инструментарий), -ач- (кедрач), -ств- (студенчество, юношество), -от- (беднота) [14, с. 206–207]. Анализ других источников (учебников, справочников, научных статей) позволяет добавить к числу суффиксов собирательных существительных такие, как -ник- (ельник, крапивник, рябинник), -няк- (березняк, дубняк, сосняк), -еж- (молодежь), -щин- (воещина, деревенщина), а также нулевой суффикс (зелень, дичь, нечисть).
Проанализировав все группы собирательных существительных с названными выше суффиксами, сравнив характеристику лексем в толковых словарях и определив возможность их функционирования в формах множественного числа с опорой на данные Национального корпуса русского языка (далее – НКРЯ), мы определили, что чаще всего в формах множественного числа употребляются существительные с суффиксами -няк-, -ник-, образованные от названий растений: березняк, дубняк, малинник, смородинник и др. Поэтому цель нашего исследования – определить условия, которые способствуют употреблению существительных с суффиксами -няк-, -ник- в формах множественного числа.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследуемая группа существительных немногочисленна. Сюда относятся такие слова, как: березняк (березник), вишняк (прост.), вербняк, дубняк, ивняк, липняк, сливняк (устар.), сосняк (сосенник), брусничник, вязник (прост.), ежевичник, ельник, земляничник, кедровник, малинник, ольшаник (олешняк, ольшняк), орешник, осинник, пихтовник (пихтарник), ракитник, рябинник, саксаульник, смородинник, черемушник, черничник, ягельник, ягодник.
В НКРЯ находим не один пример употребления форм множественного числа существительных с суффиксами -няк-, -ник-: Азин всходил на обрыв, а под ноги опускались зеленые луга, сонные озера, сникшие дубняки (А. Алдин-Семенов); Кедры, сосняки, ельники, пихтовники вплотную подступали к речке (В. Астафьев); Топтал муравейники, скидывал плечами птичьи гнезда, мял ежевичники и малинники, ломал крушину и молодые березовые побеги – не по злому умыслу, а не умея свернуть с пути и обогнуть препятствие (Г. Яхина); Сегодня Михаила задавили осинники и березняки, и он, как зверь, проламывался, продирался через них (Ф. Абрамов); Я посетил удивительное место – инновационный центр, инкубатор, который был построен среди сосняков на природе в системе Академгородка (Vesti.ru, 01.05.2015); Зола вывозится на места лесозаготовок, где сразу сажают или сеют новые сосняки и ельники (Комсомольская правда, 01.11.2011); На сравнительно небольшой территории (около 12 тыс га) можно встретить хвойные леса таежной зоны, березняки, болота разных типов, а также созданные человеком посадки разных пород деревьев, поляны, луга, пруды (Новый регион 2, 04.12.2008); Без хвойных пород леса превращаются в малоценные березняки и осинники: в частности, они уже не способны вырабатывать кислород зимой (Аргументы и факты, 04.12.2002).
Поиск по НКРЯ для слов этой группы не дает сочетаний с количественными числительными. Однако достаточно вспомнить песню на слова И. А. Бродского «Малиновка», чтобы понять, что слова с суффиксом -ник- могут сочетаться с количественными числительными:
Ты выпорхнешь, малиновка, из трех
малинников, припомнивши в неволе,
как в сумерках вторгается в горох
ворсистое люпиновое поле.
С помощью поисковой системы Яндекс выделены и другие примеры сочетания количественных числительных с существительными с суффиксами -ник-, -няк-: Щёлковский район. Два ельника (ВКонтакте); Два березняка высадят в Щелково в рамках акции «Лес Победы» 29 апреля (ВКонтакте); Однако эти два сосняка находятся на противоположных сторонах реки на расстоянии 2 км друг от друга (Журнал «Лесоведение»).
Обратим внимание на описание семантики суффикса -ник- в морфемных словарях. Г. П. Цыганенко отмечает, что суффикс -ник- «выделяется в именах существительных, называющих заросли тех кустов, деревьев, трав, которые обозначены производящим словом» [16, с. 98]. В «Словаре словообразовательных аффиксов» Л. Л. Лопатина, И. С. Улуханова одно из значений суффикса -ник- – «пространство, территория, содержащая то, что названо мотивирующим сщ.» [11, с. 550] (ледник, цветник, ельник, осинник, кустарник, крапивник), оттенок этого значения – «совокупность предметов, находящихся на этом пространстве, покрывающих его» [11, с. 551] (ельник, смородинник, саксаульник, камешник). Суффикс -няк-, по словарю Г. П. Цыганенко, «выделяется в именах существительных, обозначающих совокупность тех одинаковых предметов (растений, горных пород), которые названы производящим словом» [16, с. 100] (березняк, дубняк, железняк, известняк, лозняк). В «Словаре словообразовательных аффиксов» Л. Л. Лопатина, И. С. Улуханова этот суффикс трактуется как имеющий общее значение совокупности «одинаковых предметов (преимущ. растений), материал, вещество, в соответствии со знач. мотивирующего слова» [11, с. 561], которым может быть существительное (дубняк, лозняк, сосняк, репняк, ивняк), прилагательное (молодняк, редняк), глагол (обливняк, выкидняк).
Проанализируем лексикографическое описание исследуемых существительных с суффиксами -няк-, -ник-. Эта группа существительных в толковых словарях избирательно сопровождается пометой «собир.». Например, в «Большом толковом словаре русского языка» С. А. Кузнецова помета зачастую отсутствует: ДУБНЯК, -а; м. Дубовый лес; дубовая поросль; МАЛИННИК, -а; м. Заросли малины; РЯБИННИК, -а; м. Рябиновая роща, заросли рябины; ОСИННИК, -а; м. Осиновый лес или перелесок [4]. Однако другие лексемы, относящиеся к тому же словообразовательному типу, сопровождаются пометой «собир.»: ЕЛЬНИК, -а (-у); м. 1. Еловый лес. 2. собир. Нарубленные еловые ветки; ИВНЯК, -а; м. собир. 1. Ивовый кустарник; заросли ивы. 2. Ивовые прутья. СОСНЯК, -а; м. собир. 1. Сосновый лес; сосны. 2. Сосновые брёвна, доски [4].
В «Большом академическом словаре русского языка» помета «собир.» встречается также не у всех названных выше существительных, нередко она относится к одному из значений лексемы: ДУБНЯК, -а, м. Собир. Дубовый лес, дубовая поросль [2, т. 5, с. 413], Малинник, а, м. Заросли, кусты малины; место, где растет малина [2, т. 9, с. 442] ОСИННИК, а, м. 1. Осиновый лес или перелесок. 2. Осиновые дрова или хворост от осины [2, т. 14, с. 177], РЯБИННИК, а, м. 1. Заросли рябины. 2. Разг. То же, что рябина. 3. Птица сем. дроздов. [2, т. 24, с. 165], ЕЛЬНИК, а, м. 1. Еловый лес. 2. Собир. Нарубленные еловые ветки; лапник. [2, т. 5, с. 532–533], ИВНЯК, а, м. Собир. 1. Ивовый кустарник, заросли ивы. 2. Ивовые прутья. [2, т. 7, с. 15], СОСНЯК, а, м. 1. Сосновый лес. // Собир. Сосны. 2. Собир. Сосновые бревна, доски. [2, т. 27, с. 136–137].
В «Большом толковом словаре русских существительных» приведенные выше слова указаны как собирательные, однозначные: ДУБНЯК, -а, м. Собир. Совокупность растущих вместе (обычно молодых) дубов; дубовый лес или роща; МАЛИННИК, -а, м. Собир. Совокупность растущих вместе кустов малины; заросли малины; РЯБИННИК, -а, м. Собир. Совокупность растущих вместе кустов рябины; рябиновые заросли; ОСИННИК, -а, м. Собир. Совокупность растущих вместе осин; осиновый лес; ЕЛЬНИК, -а, м. Собир. Совокупность растущих вместе елей; еловый лес. ИВНЯК, -а, м. То же, что лозняк. ЛОЗНЯК, -а, м. Собир. Совокупность растущих вместе по берегам рек, озер и т.п. кустов ивы; син. ивняк. СОСНЯК, -а, м. Собир. Совокупность растущих вместе сосен; сосновый лес. [3].
Таким образом, отмечаем, что только в «Большом толковом словаре русских существительных» при существительных анализируемой группы помета «собир.» используется последовательно, также однотипно толкуется их семантика. Именно в этом словаре все отмеченные выше существительные в блоке толкования, кроме компонента лексического значения «вид леса», «заросли растения», имеют компоненты, указывающие на «совокупность растущих вместе» деревьев, кустов.
На следующем этапе были рассмотрены представленные в толковых словарях примеры употребления исследуемых существительных. Среди них немало примеров употребления существительных в формах множественного числа: БЕРЕЗНЯК, а, м. Собир. Березовый лес, березовая роща (обычно из молодых деревьев). В долине реки Сицы раньше были хорошие хвойные леса, впоследствии выгоревшие. Теперь на месте пожарища выросли березняки двадцатипятилетнего возраста. Арсен. Дерсу Узала [2, т. 1, с. 550]; ЛИПНЯК, -а, м. Собир. Совокупность растущих вместе лип; липовый лес или роща. Липа, наряду с елью и сосной, — одна из наиболее распространенных древесных пород заповедника, однако чистых липняков здесь практически нет (Газ.) [3]; БРУСНИЧНИК, -а, м. Собир. Совокупность растущих вместе кустов брусники; брусничные заросли. …В августе-сентябре рябчики держатся на ягодниках, главным образом в брусничниках [3]; КЕДРОВНИК, а, м. 2. Собир. Лес, состоящий из кедров (во 2 знач.). Места были глухие, куда выезжали только осенью «шишковать», т. е. собирать шишки по кедровникам. Мам-Сиб. Золото [2, т. 8, с. 28]; МАЛИННИК, а, м. Заросли, кусты малины; место, где растет малина. – А на том берегу, за тальником, – отличные малинники. Г. Марков. В поисках поэзии и правды. Тут же [в лесу] висела красочно разрисованная карта грибных и ягодных угодий – на ней нанесены земляничные поляны, черничники, малинники, ежевичники, брусничники. Мусат. Дубов. листья [2, т. 9, с. 441–442]; ОСИННИК, -а, м. Собир. Совокупность растущих вместе осин; осиновый лес. Соловецкий лес — это и светлые сосновые боры, и яркие осинники, и сумрачные ельники, и кряжистые карликовые березки в тундре (Г.Правдин) [3]; РЯБИННИК, а, м. 1. Заросли рябины. [Онисим] направился в верховья Шивды, к старой вырубке. У перехода через реку он остановился и долго слушал. Собака Левера лаяла в рябинниках. Тарас. Крупн. зверь [2, т. 24, с. 165] и др.
Как видно, ряд примеров, в которых употребляются формы множественного числа, приходится именно на те лексико-семантические варианты, при которых имеется помета «собир.» (как в «Большом толковом словаре русского языка», так и в «Большом академическом словаре русского языка»). Высокая частотность таких примеров уже в границах блока иллюстраций к словарной статье дает основание утверждать, что для слов анализируемой группы характерна регулярная реализация полной числовой парадигмы, а не отдельные случаи употребления форм множественного числа. Это противоречит приведенному выше утверждению Л. В. Калининой о том, что собирательные существительные меньше других склонны к употреблению в форме множественного числа.
Полагаем, что полная числовая парадигма исследуемых существительных с суффиксами -няк-, -ник- объясняется тем, что не во всех значениях анализируемые слова следует рассматривать как собирательные. Вспомним, что согласно «Словарю словообразовательных аффиксов» Л. Л. Лопатина, И. С. Улуханова слова с суффиксом -няк- обозначают не только совокупность растений, но и территорию. Во всех толковых словарях отмечается, что слова этой группы называют разновидность леса, зарослей. Лес – «1. Дикорастущие деревья, занимающие большую площадь // большая площадь, пространство, поросшее деревьями. 2. Перен. О множестве чего-л., устремленного вверх, высоко поднятого, возвышающегося над окружающим пространством. 3. В знач. собир. Срубленные деревья как строительный, поделочный и т.п. материал» [2, т. 9, с. 141–142]. Как видим, первое лексическое значение представлено двумя оттенками: это и множество деревьев, и территория, занятая деревьями. Соотношение «территория – предметы, находящиеся на этой территории» считаем разновидностью метонимического переноса, построенного по типу «вместилище – вместимое» (в терминах А. А. Потебни), «одно в другом» (по классификации А. А. Реформатского): класс вместо учащиеся класса, город вместо жители города. Поэтому полагаем, что целесообразно последовательно разделять значения «территория, где растут деревья, кусты одного вида» и «совокупность растений одного вида, произрастающих на определенной территории».
Таким образом, слова с суффиксами -няк-, -ник- могут обозначать:
- разновидность леса (рощи), состоящую из деревьев одного вида; место, где растут кусты одного вида;
- совокупность растущих вместе деревьев или кустов одной породы;
- нарубленные ветки, бревна, прутья, т.е. части растений, отделенные от материнского.
В первом значении существительные, обозначая территорию, являются конкретными, а не собирательными, и реализуют полную числовую парадигму. Ср.: Собака Левера лаяла в рябинниках (А. Тарасов). Очевидно, что в этом контексте рябинник – это определенное место, где лаяла собака. Следующий пример: Тут же [в лесу] висела красочно разрисованная карта грибных и ягодных угодий – на ней нанесены земляничные поляны, черничники, малинники, ежевичники, брусничники (А. Мусатов). На карту наносят границы территорий, в данном случае угодий, следовательно, и здесь перед нами собственно конкретные существительные. Рассмотрим еще один контекст: Места были глухие, куда выезжали только осенью «шишковать», т. е. собирать шишки по кедровникам (Д. Мамин-Сибиряк). Существительное места и предлог по, употребляющийся в русском языке «при обозначении предмета, пространства и т. п., поверхность которого является местом, где происходит действие, движение кого-, чего-л., где располагается кто-, что-л.; вдоль чего-л., на поверхности чего-л.» [4] указывают на то, что кедровники – это кедровые леса, т.е. определенные территории, занятые кедрами.
Обозначая совокупность растущих вместе деревьев, кустарников, существительные с суффиксами -няк-, -ник- являются собирательными и употребляются в формах единственного числа. Например: С треском ломали сухой березняк (Н. Некрасов). Березняк выступает уже не как наименование территории, так как глагол ломать обозначает действие, направленное на предмет. В предложении Окаймляющие ее (долину) горы, поросшие корявым дубняком, имеют очень крутые склоны (В. Арсеньев) причастие поросшие, образованное от глагола порасти, также указывает на направленность действия на предмет (ПОРАСТИ 1. Покрыться какой-л. растительностью [4]). Рассмотрим еще один пример: Талец и камень переплело, опутало смородинником с последними на нынешних, маслянисто-темных побегах листьями, прихваченными морозцем (В. Астафьев). Глагол опутать указывает, что смородинник не территория, а предмет, точнее совокупность предметов (веток, кустов смородины) (ОПУТАТЬ 1. кого-что (чем). Обмотать, обвить, оплести чем-л. // Густо, сплошь обвить, оплести собой [4]).
Существительные с суффиксами -няк-, -ник- в значении «нарубленные ветки, бревна, прутья, т.е. части растений, отделенные от материнского» в толковых словарях наиболее последовательно сопровождаются пометой «собир.». В этом лексическом значении анализируемые существительные называют своеобразный материал, применяемый человеком в его хозяйственной деятельности: Чагатаев разбудил людей и велел им идти собирать саксаульник…, чтобы зажечь огонь (А. Платонов); На нарах, покрытых, как водится, ельником, лежит Стародубец, которого я еще никогда не видел (В. Катаев); В хоромах каргопольского воеводы Данилы Дмитрича Кобелева жарко. Топили березняком, дров не жалели (Е. Богданов). Они могут сочетаться с существительными, называющими единицы меры: Когда последняя охапка осинника сгорала в холодной печке, Тимофей впадал в уныние (Н. Каронин-Петропавловский); Садовник использовал четыре тонны ивняка, чтобы сплести уникальную изгородь вокруг своего дома: потрясающий результат (FB.ru). Называние того, что используется в хозяйственной деятельности человека, и лексическая сочетаемость сближает эти существительные с вещественными, которые «обозначают то, из чего изначально состоит или создается объект (его детали) и то, что нужно для дальнейшего продления его бытия, а также отходы его материального существования» [7, с. 63]. По мнению некоторых исследователей, такие слова сочетают в себе признаки вещественных и собирательных, т. е. занимают промежуточное место в системе лексико-грамматических разрядов: «Имена существительные типа тряпье классифицируем как собирательные с элементами вещественности (они входят в собственные тройственные ряды: тряпка – тряпки – тряпье)» [14, с. 52]. Полагаем, что на основании семантики (обозначение предметов, используемых в хозяйственной деятельности человека, обычно как строительный материал или вид топлива) следует относить березняк, ельник и т. д. в соответствующем значении к вещественным существительным (о разграничении собирательных и вещественных существительных см. [17]). Формы множественного числа для существительных в этом лексическом значении не отмечены.
ВЫВОДЫ
Существительные с суффиксами -няк-, -ник-, мотивированные словами – названиями растений, имеют несколько лексических значений. Обозначая определенную территорию, занятую тем или иным видом деревьев или кустарников, эти слова реализуют полную числовую парадигму, допускают определение количественными числительными, т.е. являются конкретными существительными. На основании метонимического переноса формируется другое лексическое значение, которое связано с наименованием совокупности растений определенного вида, занимающих одноименную территорию. Именно в этом, вторичном, значении существительные выступают как собирательные и употребляются в формах единственного числа. То есть значение совокупности растений, по нашему мнению, для существительных с суффиксами -няк-, -ник- является вторичным и не единственным. Традиционное для лексикографической практики объединение этих двух различных лексических значений в одно создает ошибочное представление о регулярном употреблении собирательных существительных с соответствующими суффиксами в формах множественного числа. На самом деле в собственно собирательном значении эти слова продолжают функционировать только или по крайней мере преимущественно в формах единственного числа (нам не удалось выделить формы множественного числа для существительных в этом лексическом значении).
Вопрос об употреблении собирательных существительных в формах множественного числа остается актуальным. Изучение семантики и функционирования существительными с суффиксом -няк-, -ник- не дает на него положительного ответа. Предстоит детально изучить и описать другие существительные, традиционно определяемые как собирательные, и особенности их употребления.
References
- Belov V. A. Semanticheskie svojstva imen sushhestvitel’nyh razlichnyh leksiko-grammaticheskih razrjadov [Semantic properties of nouns of various lexical-grammatical categories]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 2. Jazykoznanie, 2020, Vol. 19, no 3, pp. 38–48.
- Bol’shoj akademicheskij slovar’ russkogo jazyka [The large academic dictionary of the Russian language]. akad. nauk, In-t lingvist. issled. Ed. by L. I. Balahonova. Moscow, Nauka Publ., St. Petersburg, Nauka Publ., 2004. 695 p.
- Bol’shoj tolkovyj slovar’ russkih sushhestvitel’nyh [Large explanatory dictionary of Russian nouns]. Ed. by L. G. Babenko. Moscow, AST-PRESS Publ., 2008. 864 p.
- Bol’shoj tolkovyj slovar’ russkogo jazyka [A large explanatory dictionary of the Russian language]. Ed. by S. A. Kuznecov. St. Petersburg, Norint Publ., 1998, 1534 p. Available from: https://gramota.ru/biblioteka/slovari/bolshoj-tolkovyj-slovar (accessed 26 February 2024).
- Bulanin L. L. Trudnye voprosy morfologii [Difficult questions of morphology]. Moscow, Prosveshhenie Publ., 1976, 208 p.
- Vol’skaja Ju. A. Morfologicheskij kriterij razgranichenija abstraktnyh i konkretnyh sushhestvitel’nyh: jeksperimental’nyj podhod [Morphological criterion for distinguishing abstract and concrete nouns: an experimental approach]. Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Serija gumanitarnye nauki, 2021, vol. 163, b. 1, pp. 119–129.
- Kalinina L. V. K voprosu o kriterijah vydelenija i otlichitel’nyh primetah leksiko-grammaticheskih razrjadov imen sushhestvitel’nyh [On the issue of criteria for the allocation and distinctive signs of lexical- grammatical categories of nouns]. Voprosy jazykoznanija, 2007, no. 3, pp. 55–70.
- Kalinina L. V. O formah mnozhestvennogo chisla abstraktnyh, veshhestvennyh i sobiratel’nyh sushhestvitel’nyh [On the plural forms of abstract, substantial and collective nouns]. Russkaja slovesnost’, 2007, no. 2, pp. 42–46.
- Kozlova R. P. Leksiko-grammaticheskie razrjady imen sushhestvitel’nyh v kognitivnom aspekte [Lexico-grammatical classes of nouns in the cognitive aspect]. Vestnik tambovskogo universiteta. Serija: Gumanitarnye nauki, 1999, no. 1 (13), pp. 23–29.
- Lapteva M. L., Lukina N. V. Kombinatorika leksiko-grammaticheskih razrjadov imen sushhestvitel’nyh v russkom jazyke [Combinatorics of lexical-grammatical categories of nouns in the Russian language]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 2. Jazykoznanie, 2020, vol. 19, no. 3, pp. 27–37.
- Lopatin V. V., Uluhanov I. S. Slovar’ slovoobrazovatel’nyh affiksov sovremennogo russkogo jazyka [Dictionary of word–forming affixes of the modern Russian language]. Moscow, Izdatel’skij centr «Azbukovnik» Publ., 2016. 812 p.
- Orlova S. L. Perehodnye javlenija v sisteme leksiko-grammaticheskih razrjadov imeni sushhestvitel’nogo v russkom jazyke [Transitional phenomena in the system of lexical-grammatical categories of a noun in the Russian language]. Universitetskij kompleks kak regional’nyj centr obrazovanija, nauki i kul’tury. Materialy vserossijskoj nauchno-metodicheskoj konferencii. Orenburg, Orenburgskij gosudarstvennyj universitet Publ., 2016, pp. 2070–2073.
- Reformatskij A. A. Chislo i grammatika [Number and grammar]. Voprosy grammatiki. Sbornik statej k 75 letiju akademika I. I. Meshhaninova. Moscow–Leningrad, AN SSSR Publ., 1960, pp. 384–401.
- Russkaja grammatika: v 2 t. T. 1. Fonetika. Fonologija. Udarenie. Intonacija. Slovoobrazovanie. Morfologija [Russian grammar in 2 volumes. Vol. 1. Phonetics. Phonology. Accent. Intonation. Word formation. Morphology]. Moscow, Nauka Publ., 1980. 784 p.
- Sidorenko E. N. Teoreticheskie i prakticheskie materialy po morfologii sovremennogo russkogo jazyka. V 5-ti chastjah. Ch. 1: Obshhie voprosy chastej rechi. Imja sushhestvitel’noe [Theoretical and practical materials on the morphology of the modern Russian language. In 5 parts. Part 1: General questions of parts of speech. Noun name]. Simferopol’, Krymskoe uchebno-pedagogicheskoe gosudarstvennoe izdatel’stvo Publ., 2005. 148 p.
- Cyganenko G. P. Slovar’ sluzhebnyh morfem russkogo jazyka [Dictionary of official morphemes of the Russian language]. Kiev, Rad. Shkola Publ., 1982. 240 p.
- Chabanenko T. S. Sobiratel’nye ili veshhestvennye: k probleme opredelenija leksiko-grammaticheskogo razrjada nekotoryh sushhestvitel’nyh [Collective or substantial: on the problem of determining the lexico-grammatical category of some nouns]. Uchenye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Filologicheskie nauki, 2024, Vol. 10 (76), no. 1, pp. 130–141.
- Chernejko L. O. Lingvofilosofskij analiz abstraktnogo imeni [Linguistic and philosophical analysis of an abstract name]. Moscow, Knizhnyj dom LIBROKOM Publ., 2010, 272 p.