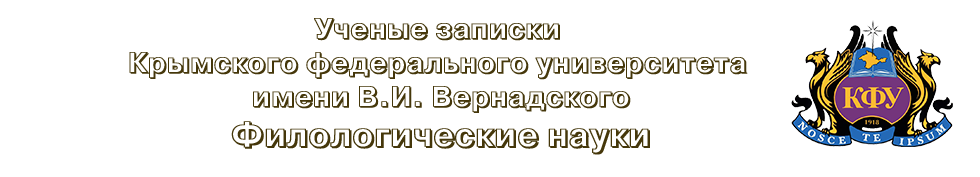ARKADY AND BORIS STRUGATSKY’S MYTHOPOETICS AS A PHENOMENON OF LATE SOVIET LITERATURE OF THE 1970S-1980S: GENESIS AND CONTEXT
JOURNAL: «Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philological sciences», Volume 11 (77), № 3, 2025
Publication text (PDF): Download
UDK: 821.16
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:
Okutin N. Y., Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian Federation
TYPE: Article
DOI: https://10.29039/2413-1679-2025-11-3-101-108
PAGES: from 101 to 108
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: Strugatsky, mythopoetics, Silver Age, apocalyptic pathos, cyclization, eschatology, biblical symbolism
ABSTRACT (ENGLISH): The article attempts to conceptualize the mythopoetics of Arkady and Boris Strugatsky’s work as a key phenomenon of late Soviet literature of the 1970s-1980s. On the basis of the analysis of the existing literary-critical and scientific reception of their works with an emphasis on the works revealing mythopoetic aspects of the writers’ prose, the conclusion about the expediency of such a statement of the problem is made. The genetic connection of the artistic features of Strugatsky’s works with the traditions of the Silver Age, as well as with the reception of philosophical ideas of the turn of the XIX–XX centuries is demonstrated. The hypothesis is put forward that Strugatsky’s works are similar to other phenomena of late Soviet literature (such as “village prose” and works by Ch. Aitmatov) due to the apocalyptic pathos, which causes the use of similar means of artistic expression: biblical images and plots, natural symbolism.
ВВЕДЕНИЕ
Творчество братьев Стругацких занимает особое место в русской советской литературе ХХ в. Однако приходится констатировать, что обширное и многостороннее творческое наследие писателей до недавнего времени находилось на периферии отечественной литературоведческой мысли. «Неблагонадежность» произведений Стругацких в глазах властей, череда громких скандалов, таких как публикация повести «Гадкие лебеди» в эмигрантском журнале «Посев», привели в 1970-е гг. к негласному умолчанию вокруг братьев Стругацких, что негативно сказалось на интенсивности изучения их произведений.
Глубокое прочтение творчества Стругацких начинается в 1980-е гг., отмеченные общей либерализацией общественно-политического климата и ослаблением литературоведческого догматизма. М. Ф. Амусин в этот период писал, что богатое наследие авторов не сводится к подспудной критике социальных явлений. Насыщение произведений фантастическими и мифологическими мотивами, а также сочетание неоднородных культурно-исторических пластов, смыслов и стилевых рядов дает им возможность выйти на гораздо более высокий уровень обобщения, открывая для читателя «социальную, этическую, философскую проблематику высокого уровня общности», среди которых немало «вечных вопросов»: «будущее человечества, судьбы цивилизации, нравственная самостоятельность личности» [3, с. 158]. Его очерк творческого пути писателей и эволюции содержательной стороны их произведений наметил некоторые темы, поднимаемые критикой в конце 1980-х гг.
Монография В. Кайтоха, опубликованная на языке оригинала в 1993 г. (изд. на польском яз.: [16]) и изданная в русском переводе в дополнительном двенадцатом томе собрания сочинений Стругацких в 12 томах, посвящена характерным чертам поэтики Стругацких в диахронии и демонстрирует эволюцию построения произведений писателей. Вслед за Амусиным Кайтох на материале всех доступных ему произведений (от первых рассказов Аркадия Стругацкого и повести «Страна багровых туч» (1959) до последнего совместного произведения авторов, пьесы «Жиды города Питера, или Невеселые беседы при свечах» (1990) выявляет то, что впоследствии станет общим местом всех работ, посвященных творчеству Стругацких — поступательное развитие поэтики от коммунистического утопизма 1950-х гг. с сильным элементом научной фантастики, вдохновленного «школой Ефремова», до перевода фантастического элемента в служебную роль инструмента, фона для «несущих собственное содержание событий» [7, с. 480].
Кайтох одним из первых подошел к осмыслению романов и повестей Стругацких как произведений литературы, претендующих на приближение к подлинно высоким образцам словесности, вопреки доминирующему взгляду на фантастику как явление преимущественно развлекательное и «несерьезное». Подобным образом формулирует проблему и И. Хауэлл в работе «Апокалиптический реализм: научная фантастика Аркадия и Бориса Стругацких». Главной целью исследователя стало изучение механизмов и авторские стратегий кодировки глубоких философских и социополитических вопросов «в шаблонных структурах научно-фантастической, детективной и приключенческой литературы» [14, с. 15]. Хауэлл первой ставит две важнейшие литературоведческие проблемы, связанные с развитием изучения наследия Стругацких. Исследователь, в отличие от Кайтоха и Амусина, рассматривает творчество писателей в синхронии и уделяет внимание аспектам, предопределяющим поэтику «зрелых» повестей и романов. Это, во-первых, активная рецепция и переработка ими творческого и культурного наследия начала ХХ в. Произведения поздних Стругацких, полагает Хауэлл, складывались как «отклик на апокалиптическую литературу Серебряного века и утопическую литературу авангарда 1920-х годов», и парадигма научной фантастики использовалась писателями для активного творческого переосмысления «философского, религиозного и культурного наследия периода русского модернизма» [14, с. 25–27]. Доминирующие особенности художественного мира Стругацких, такие как образы «”будущих” и “чужих” миров», берутся авторами не из «мира кибернетических высоких технологий и не из мира волшебных сказок», а из «метафизических систем раннехристианских ересей и космологического дуализма» и, как следствие, из русских модернистских движений начала ХХ века, которые включали в себя и активно переосмысляли их [14, с. 30].
Во-вторых, главным литературным приемом Стругацких является т.н. «префигурация сюжета». Устоявшийся в западном литературоведении термин трактуется Хауэлл как «мотив, который становится прообразом и тем самым прогнозирует множеством различных способов сюжет самостоятельного литературного произведения». Прообраз-префигуратор позволяет «дать символическое пояснение относительно ряда героев и событий, предлагает знакомую аналогию», позволяющую читателю лучше понять коллизию, описываемую в романе [14, с. 31–32]. Таким образом, Хауэлл в монографии прямо ставит вопрос о неомифологической природе творчества «зрелых» Стругацких, выделяя широкий пласт префигуративных мотивов. Это позволяет исследователю акцентировать внимание на глубине произведений писателей, открывающейся по мере раскрытия «структуры подтекстов» в весьма прямолинейном, на первый взгляд, популярном жанровом формате научной фантастики [14, с. 38].
В работе Хауэлл множество точных и глубоких наблюдений и сформулированы вопросы, которые, на наш взгляд, являются плодотворной почвой для дальнейшего изучения произведений Стругацких с точки зрения мифопоэтики. В отечественной науке за последние годы были изданы два исследования, непосредственно посвященные этому аспекту творчества Стругацких. В монографии Т. О. Надежкиной трилогия о Максиме Каммерере рассматривается как «триединый авторский миф», а композиционное построение каждой части трилогии изучается ею с помощью мифопоэтических бинарных оппозиций («индивид–социум», «настоящее–будущее», «свой–чужой» и пр.), детерминирующих все уровни произведения, что позволяет, по мнению исследователя, «определить концептуальные позиции писателей в разные периоды их творчества» и «проследить основные тенденции их изменения» [10, с. 183].
Мифопоэтический аспект произведений Стругацких становится предметом исследования и в монографии В. В. Милославской. Две последние части романа «Град обреченный», по мнению исследователя, выводят повествование на «новый уровень обобщения», универсалистский по своей сути, выходящий далеко за пределы жизнеописания отдельно взятого героя. Хронотоп самого Города, в свою очередь, может на основе отдельных отсылок в тексте трактоваться как пространство дантевского Ада, а такая особенность жизни в загадочном пространстве Эксперимента, как общение представителей разных национальностей на едином языке, однозначно отсылает к мифу о Вавилоне [9, с. 82–84]. Обращение к библейскому тексту как одной из главных моделей мифопоэтической организации повествования обосновывается автором с помощью соотнесения напастей, настигающих Город, с десятью египетскими казнями [9, с. 85].
Обе работы представляют собой значительный вклад в осмысление мифопоэтического потенциала творчества Аркадия и Бориса Стругацких. Тем не менее, их фокус внимания ограничен отдельными аспектами творчества писателей и не предполагает комплексного анализа всего корпуса их произведений. Монография Т. О. Надежкиной сосредоточена на исследовании мифопоэтической организации так называемой трилогии о Максиме Каммерере, включающей романы «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер». Работа В. В. Милославской, в свою очередь, затрагивает проблему мифопоэтики в творчестве Стругацких лишь в той мере, в которой это необходимо для включения их повестей и романов в контекст эстетических стратегий постмодернизма, где обращение к мифу играет важную, но не определяющую роль. Таким образом, вопрос о системном осмыслении мифопоэтического измерения всего творчества Стругацких все еще требует внимания.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ
Перспективным направлением исследований, как представляется, может стать изучение творческого наследия Стругацких в контексте магистральных тенденций развития русской литературы ХХ века, во многом продолжающих и развивающих эстетические искания модернистской литературы начала столетия. В этой связи может быть актуализирован вопрос о том, каким образом художественные поиски Стругацких, их авторская рефлексия и самоопределение повлияли на трансформацию канонических жанровых моделей и стилистических особенностей научной фантастики, что привело к формированию новых форм фантастической литературы в позднесоветский период. Такой подход, думается, позволит не только выявить специфику эволюции фантастического жанра в творчестве Стругацких, но и определить их место в общелитературном процессе, раскрывая взаимосвязь их произведений с ключевыми тенденциями русской литературы ХХ в.
В основе наиболее значимых произведений Стругацких зрелого периода лежат, как нам представляется, инвариантные жанровые схемы, предложенные русской литературой начала ХХ в. Если в классических мифологических системах, в основе которых лежит оппозиция Хаос/Космос, победа неминуемо остается за силами космизации, то в ХХ в. ситуация меняется. Русский (преимущественно символистский) роман рубежа XIX–XX вв. поставил под сомнение, как отмечает В. В. Полонский, саму «правомочность и состоятельность “космических” сил, их способность к творчески плодотворной победе над “хаосом”» [11, с. 14]. Мифопоэтическим произведениям Стругацких как продолжающим магистральную для всего литературного процесса ХХ в. мифологизацию также свойственна тотальная релятивизация классической мифологической схемы и перемена мест в оппозиции «Хаос/Космос».
Речь о том, что, например, повесть «Улитка на склоне» строится на мифологической схеме противостояния двух начал: Леса и Управления. Управление, символизирующее бюрократическую косность, дискредитирует советский утопический проект (которому сами Стругацкие были привержены на раннем этапе творчества), претендуя на рационалистическое преобразование пространства: «Вырастут ослепительной красоты здания из прозрачных и полупрозрачных материалов, стадионы, бассейны, воздушные парки <…> Автомобили, глайдеры, дирижабли…» [13, с. 91]). Однако попытки «космизации» хаотического Леса Управлением ввиду тотальной беспомощности и бессилия «космических сил» вырождаются в кафкианскую абсурдность: «Ни единого дня без Директивы, и все будет в порядке» [13, с. 182]. Лес, напротив, трактуется как хаотическое начало, связанное с мистицизмом и «женской» стихией, символизирующей русский народ [14, с. 160]. Загадочные «Одержание», «Разрыхление почвы», «Заболачивание», предпринимаемые Лесом под руководством таинственных женщин представлены в повести как Прогресс, не безукоризненный с этической точки зрения. Кандид отказывается признавать «космизирующий» потенциал Леса и в финале повести восстает против него, занимая сторону угнетенных жителей: «Закономерности не бывают плохими или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали! <…> я не могу, когда людей считают животными <…> Идеалы…Великие идеи…Естественные законы природы…И ради этого уничтожается половина населения! Нет, это не для меня» [13, с. 191]. Стругацкие переосмысливают классические мифопоэтические схемы, что характерно и для прозы русского модернизма рубежа веков: Управление, претендующее на «космизацию», терпит крах, а Лес, воплощающий хаос, стремится к установлению собственного порядка. Однако герой, находясь «вне мифа», отвергает обе силы, подчеркивая релятивизацию космического и хаотического начал и их известную однородность. Это позволяет авторам художественно оформить распад и деструкцию картины мира, заставляя «мифопоэтический организм работать в обратном порядке – художественно оформлять распад, хаотизацию, деструкцию картины мира» [11, с. 19].
Еще одним значимым аспектом творчества Стругацких, представляющим интерес для анализа в обозначенном нами аспекте, является их склонность к циклизации, созданию многослойных, композиционно выверенных циклов произведений. Эта тенденция также восходит к художественным поискам рубежа XIX–XX вв., особенно характерным для поэзии. В прозе аналогичные тенденции также получили развитие, что ярко проявилось, например, в историософской романистике Д. С. Мережковского, чьи произведения демонстрируют «редкую цельность, единство инвариантной структуры» и тенденцию «к сверхциклизации» [11, с. 55]. У Стругацких циклизация, конечно, приобретает принципиальное иное значение, выступая одним из ключевых структурных и содержательных принципов организации их художественного мира. Цикл-трилогия о Максиме Каммерере объединяется не только общим героем, но и устойчивой философско-социальной проблематикой, связанной с темой Прогрессорства. Однако осмысление этой проблематики претерпевает значительную эволюцию на протяжении трилогии, что отражает изменение авторской позиции в отношении этики и целесообразности вмешательства в историческое развитие. Если в романе «Обитаемый остров» Прогрессором выступает землянин Максим Каммерер, который, руководствуясь гуманистическими идеалами, помогает отстающему обществу противостоять тоталитарному государству и выступает в роли носителя прогресса, то в следующей части трилогии «Жук в муравейнике» акцент смещается на этические противоречия Прогрессорства, где само право на вмешательство в судьбы других цивилизаций ставится под сомнение. В заключительной части трилогии, «Волны гасят ветер», ситуация инвертируется: земляне сами оказываются объектом экспериментов со стороны более развитых люденов.
Сопоставление цикла о Максиме Каммерере с более ранним циклом произведений о «Мире Полудня», в котором Стругацкие создают масштабную утопическую модель будущего (хотя и не лишенную внутренних конфликтов), позволяет выявить не только преемственность их творчества по отношению к художественным традициям литературы рубежа XIX–XX веков, но и проследить динамику эволюции и трансформации утопического сознания в советской культуре. Анализ инвариантных структур, лежащих в основе этих циклов, демонстрирует, как Стругацкие переосмысливают утопические идеалы, постепенно переходя от их утверждения к критическому осмыслению и деконструкции, что отражает общую тенденцию усложнения философской и этической проблематики в их творчестве.
Новейшие работы о творчестве писателей свидетельствуют о плодотворном развитии намеченной в исследовании Хауэлл линии поиска генезиса представлений Стругацких в культуре Серебряного века. Повесть «За миллиард лет до конца света», пронизанная эсхатологическими мотивами Страшного суда и конца света как неминуемого итога судьбы человечества, оказывающего влияние на героев уже здесь и сейчас, рассматривается исследователями в том числе в свете идей Н. Федорова, чьи представления о роли науки, способной преодолеть смерть, находят выражение в образе ученого Вечеровского — единственного, кто осмелился подняться на борьбу с иррациональной силой Гомеостатического Мироздания [1, с. 301].
Исследование мифопоэтики Стругацких 1960–1980-х годов, как нам представляется, выявляет двойную преемственность по отношению к культуре рубежа XIX – XX веков: идейную (актуализация эсхатологических чаяний в предчувствии скорого конца устоявшегося макрокосома) и художественную (развитие мифотворческих стратегий, циклизация произведений). Писатели органично продолжают художественные искания Серебряного века, которые служат у них инструментом для актуализации апокалиптического кода русской литературы. В условиях позднесоветской культуры подобное мифотворчество трансформируется в оригинальную художественную систему, где традиционные эсхатологические мотивы переосмысляются как пророчество о конце «советского космоса».
Особенно плодотворным может быть анализ апокалиптических предчувствий Стругацких в контексте литературно-культурных процессов современной им эпохи. Распространение апокалипсических мотивов в позднесоветской литературе, в частности в рамках традиционалистской «деревенской прозы», уже становилось предметом литературоведческого осмысления [8; 15]. Пафос катастрофизма, художественное осмысление неизбежного распада социокультурного единства побуждает «деревенщиков» активно обращаться к мифопоэтическому арсеналу – христианским аллюзиям и символам, народным, языческим мифам. Заметное присутствие апокалипсического пафоса характерно и для поздних произведений Чингиза Айтматова 1980–1990-х гг. Мифопоэтическая организация романа «Плаха», композиционно построенного как противостояние двух смысловых полюсов «космоса» и «хаоса», также призвано выразить ощущение «”конца эпохи” — всеобъемлющего и неотвратимого» [4, с. 89]. Эсхатологические ожидания Айтматова в уже постсоветском романе «Тавро Кассандры» выражаются с помощью обращения к архетипической эсхатологической мифологии, в которой «земле суждено погибнуть от вод океана» [5, с. 112].
Сближение художественных миров Стругацких и Айтматова в поздний период их творчества проявляется не только в общности эсхатологических мотивов, но и в сходстве поэтических средств в произведениях позднего периода. Библейские сюжеты и символы выполняют в их произведениях двойную функцию: становится структурной основой повествования и средством философского осмысления современности [12]. Обратим внимание и на прямой параллелизм образов, такой, как рационально необъяснимый феномен самоубийства китов в поздней повести Стругацких «Волны гасят ветер» и постсоветском романе Айтматова «Тавро Кассандры». Этот образ раскрывается как сложный символический конструкт, который можно истолковать и как предчувствие грядущих экологических катастроф (что особенно характерно русской советской «деревенской прозе»), и как символ глобального цивилизационного кризиса, как «реакция мирового разума на земные события» [2, с. 53], знаковое выражение вселенского дисбаланса, вызванного человеческой деятельностью. Стругацкие, в свою очередь, акцентируют иррациональную природу явления: «Пастухи утверждают, что китов гонит на гибель слепой ужас» [13, с. 594]. В обоих случаях массовая гибель морских гигантов становится символом катастрофического нарушения природного порядка и может прочитываться как воплощение цивилизационного тупика. Подобный параллелизм свидетельствует не только об общности мифопоэтических исканий двух авторов, но и о характерной для позднесоветской литературы тенденции к осмыслению социальных процессов через универсальные природные архетипы, где экологическая катастрофа становится проекцией кризиса всей антропоцентрической модели развития.
ВЫВОДЫ
Л. Геллер писал, что «нет, пожалуй, ни одной серьезной попытки связать НФ [научную фантастику. — Н. О.] с ее литературным контекстом» [6, с. 6]. Исследователь решает эту проблему, последовательно интегрируя советскую научную фантастику, включая творчество Стругацких, в контекст «литературы “главного потока”» [Там же]. Однако вопрос о соотнесении позднего периода творчества Стругацких, который характеризуется отходом от «научной» фантастики в сторону фантастики «реалистической», усилением мифопоэтического начала и нарастанием апокалиптического пафоса, с современными им течениями позднесоветской литературы, на наш взгляд, остается недостаточно изученным. Поздние произведения Стругацких, такие как «Град обреченный» или «Отягощенные злом, или Сорок лет спустя», демонстрируют явный сдвиг в сторону философско-мифологического осмысления действительности. Стругацкие не столько обращаются к архаическим мифологическим структурам, сколько создают новые мифы, отражающие кризисные явления позднесоветской эпохи. Это позволяет говорить об их творчестве как о своеобразном мосте между научной фантастикой с ее особым неомифологизмом и «главным потоком» литературы, где апокалиптические ожидания становятся универсальным языком для описания распада социальных и культурных устоев. Выявление линий пересечения между поздним творчеством Стругацких и ключевыми тенденциями позднесоветской литературы позволит не только углубить понимание их наследия, но и расширить представления о литературном процессе эпохи в целом.
References
- Abramova O. G., Sukhotskaia I. V. Eskhatologicheskie motivy v povesti A. i B. Strugatskikh «Za milliard let do kontsa sveta» [Eschatological motifs in the story by A. and B. Strugatsky. Strugatsky’s “One Billion Years Before the End of the World”]. Problemy istoricheskoi poetiki, 2024, vol. 22, no 3, pp. 286–308.
- Ajtmatov Ch. T. Tavro Kassandry. Pegij pes, begushchij kraem morya. [‘Tavro Cassandra’. ‘Piebald Dog Running Along the Shore’]. Moscow, AST Publ., 2010. 380 p.
- Amusin M. F. Daleko li do budushchego? [How far into the future?]. Neva, 1988, no 2, pp. 153–160.
- Vasil’eva-Shal’neva T. B. «Apokalipsicheskaia dilogiia» Ch. Aitmatova (romany «Plakha» i «Tavro Kassandry») [“Apocalyptic Dilogy” by Ch. Aitmatov (novels ‘The Place of the Skull’ and ‘Tavro Cassandra’)]. Filologiia i kul’tura, 2013, no 2(32), pp. 89–93.
- Gainutdinova G. F., Nurkeeva B. A. Mifopoetika romana Ch. Aitmatova «Tavro Kassandry» (arkhetipicheskie obrazy prirodnykh stikhii) [Mythopoetics of Ch. Aitmatov’s novel “Tavro Cassandra” (archetypal images of natural elements)]. Yazyk i kul’tura, 2015, no 16, pp. 111–116.
- Geller L. Vselennaia za predelom dogmy. Razmyshleniia o sovetskoi fantastike [The Universe Beyond Dogma. Reflections on Soviet science fiction]. London, Overseas Publication Interchange, 1985. 446 p.
- Kaitokh V. Brat’ia Strugatskie [Strugatsky brothers], Strugatskii A.N., Strugatskii B.N. Sobranie sochineni. V 11 t. T. 12, dopolnitel’nyi. Donetsk: Stalker, 2003, pp. 409–670.
- Kovtun N. V. Derevenskaia proza v zerkale utopii [Village prose in the mirror of utopia]. Novosibirsk, SO RAN Publ., 2009. 494 p.
- Miloslavskaia V. V. Tvorchestvo A. i B. Strugatskikh v kontekste esteticheskikh strategii postmodernizma [Strugatsky in the context of aesthetic strategies of postmodernism]. Stavropol’, SKFU Publ., 2014. 158 p.
- Nadezhkina T. O. Tri mifa Strugatskikh [Three myths of Strugatsky brothers]. Vladivostok, Marine State University Publ., 2010. 197 p.
- Polonski V. V. Mifopoetika i dinamika zhanra v russkoj literature konca XIX–nachala XX veka [Mythopoetics and the dynamics of genre in Russian literature of the late XIX-early XX century]. Moscow, Nauka Publ., 2008. 285 p.
- Rybal’chenko T. L. Osmyslenie sovremennosti i istorii chelovechestva v romanah konca sovetskogo vremeni («Plaha» CH. Ajtmatova i «Otyagoshchennye zlom» A. i B. Strugackih) [Comprehension of modernity and human history in the novels of the late Soviet period (“Plakha” by Ch. Aitmatov and “Burdened with Evil” by A. and B. Strugatski)]. Filologiya i chelovek, 2020, no 3, pp. 142–151.
- Strugacki N., Strugacki B. N. Volny gasyat veter: Povesti. [The Time Wanderers. Tales.] Leningrad, Sovetskij pisatel’ Publ., 1990. 656 p.
- Howell I. Apokalipticheskii realizm: nauchnaia fantastika Arkadiia i Borisa Strugatskikh [Apocalyptic Realism: The Science Fiction of Arkady and Boris Strugatsky]. Saint-Petersburg, BiblioRossika, 2021. 192
- Tsvetova N. S. Eskhatologicheskaya topika v russkoj tradicionnoj proze vtoroj poloviny 20th – nachala 21st vv: Avtoref diss. … dokt. filol. nauk [Eschatological topics in Russian traditional prose of the second half of the 20th – early 21st Abstract of thesis]. Arkhangelsk, 2011. 47 p.
- Kajtoch Bracia Stugaccy. Krakow, Universitas, 1993. 230 p.