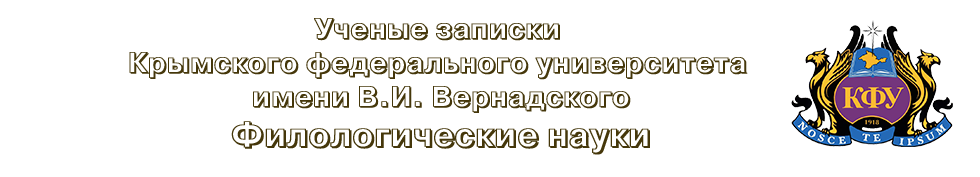THE CRIMEAN SUPPLEMENT TO THE “ZWEIG VERSION” OF THE DISAPPEARANCE OF THE MANUSCRIPT OF “THE BROTHERS KARAMAZOV”
JOURNAL: «Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philological sciences», Volume 11 (77), № 3, 2025
Publication text (PDF): Download
UDK: 82(091)
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:
Kapustina S. V., V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation
TYPE: Article
DOI: https://10.29039/2413-1679-2025-11-3-78-87
PAGES: from 78 to 87
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: “The Brothers Karamazov”, “Golos Kryma” (“The Voice of Crimea”), Crimea, Simferopol, manuscript, Stefan Zweig, genealogy, Anna Grigorievna Dostoevskaya, Ekaterina Petrovna Dostoevskaya, Anna Petrovna Falz-Fein, Andrey Fyodorovich Dostoevsky.
ABSTRACT (ENGLISH): The Crimea, where Anna Dostoevskaya completed her earthly journey, is traditionally associated with the mysteries of the missing Fyodor Dostoevsky manuscripts. However, in the so-called “Zweig version” of the disappearance of the manuscript of “The Brothers Karamazov”, the peninsula is considered not as the actual place of disappearance, but as an information space in which, according to the epistolary testimony of Anna Falz-Fein, a message was printed about the sale of the white version of Fyodor Dostoevsky’s novel to an Austrian writer and journalist. Letter from Anna Falts-Fein to Vera Nechaev’s letter dated October 16–29, 1957, which contains a reference to an unknown newspaper trace of the “Zweig version”, was introduced into scientific circulation by Nicolay Bogdanov and Boris Tikhomirov. This message (along with a letter from Andrey Dostoevsky to Leonid Grossman dated September 26, 1958) made the once marginal “Zweig version” of Boris Bursov more convincing, but the lack of attribution of the newspaper report itself about Stefan Zweig’s purchase of the manuscript of “The Brothers Karamazov” revealed the need to find a «Crimean supplement» to the proposed hypothesis. Justifiably refuting the contradictory dates of the sought-after message presented in the listed letters, Boris Tikhomirov came to the conclusion that the reference to the sale of Fyodor Dostoevsky’s literary heritage abroad could have originated in the Crimean collaborationist press (for example, in the newspaper “Golos Kryma”). The researcher’s assumption is verified in this article. The contents of the files of The “Golos Kryma”, stored in the funds of the State Archive of the Republic, demonstrate the editorial staff’s focus on the work and post-biography of Fyodor Dostoevsky, as well as on the “Crimean branch” of his family tree. Nevertheless, the message confirming the “Zweig version” has not been found, which opens up the prospect of its further search both in the missing issues of the “Golos Kryma” in the archival funds of the Republic, and in other periodic sources available to residents of Simferopol during the German occupation.
Светлой памяти выдающегося исследователя биографии и творчества Ф. М. Достоевского, непревзойденного знатока родословия писателя, настоящего ученого-энциклопедиста Тихомирова Бориса Николаевича
(1952–2025)
ВВЕДЕНИЕ
Ф. М. Достоевский никогда не был в Крыму[1], однако связанные с полуостровом мотивы были введены им в художественные и публицистические тексты (см.: [4; 5; 14]); с Симферополем и Южнобережьем в середине XIX века переплелись судьбы вдовы и сына писателя (см.: [1; 2; 6]). После смерти Анны Григорьевны Достоевской (09.06.1918 г. – ст. ст.) в оккупированной немецко-румынскими войсками Ялте «крымская линия» закономерно обозначилась в теориях об исчезновении ценнейших манускриптов классика. В частности, Б. Н. Тихомиров, скрупулезно проанализировав факты и гипотезы об исчезнувших рукописях «Братьев Карамазовых», при содействии Н. Н. Богданова значительно дополнил изначально предложенную Б. И. Бурсовым «цвейговскую версию», согласно которой, тетрадь Ф. М. Достоевского с рукописным текстом кульминационного романа «в межвоенные годы «купил за баснословную цену» австрийский писатель Стефан Цвейг» [15, с. 782].
Вероятную правомерность этого заключения Б. Н. Тихомиров аргументировал содержанием двух писем: А. Ф. Достоевского к Л. П. Гроссману от 26 сентября 1958 г. и А. П. Фальц-Фейн к В. С. Нечаевой от 16–29 октября 1957 г. В первом послании есть утверждение внука писателя с указанием на неатрибутированный печатный источник «цвейговской версии»: «Слыхали ли Вы, что будто бы Стефан Цвейг, проживающий последнее время в Аргентине, незадолго до самоубийства, приобрел (в конце 30-х годов) экземпляр рукописи «Братья Карамазовы»? – Мне об этом писала Нина Петровна, ссылаясь на газетные сообщения» (цит. по: [15, с. 782]. Во втором же письме сама Нина (Анна) Петровна Фальц-Фейн свидетельствовала: «В Симферополе еще в 20-х годах я прочла в газете, какой не помню, будто власти продали Стефану Цвейгу рукопись «Бр(атьев) Кар(амазовых)» за 150 тыс(яч) рублей. Как Вам, вероятно, известно, Ст. Цвейг не перенес отъезда с его Родины и покончил с собой, вместе с женой, в Буэнос-Айресе» (цит. по: [15, с. 783]). Оба эпистолярных источника отсылают к «крымскому следу» возникновения / распространения «цвейговской версии» – некому доступному для симферопольцев газетному сообщению, период публикации которого, как явствует из приведенных цитат, представлен весьма противоречиво.
Б. Н. Тихомиров, приведя исчерпывающую аргументацию из биографий поименованных адресантов, выдвигает гипотезу о вероятной ошибочности в указанных ими датировках газетного сообщения. Исследователь предполагает: «Анна Петровна, находясь в Симферополе, могла прочесть о том, что «власти продали Стефану Цвейгу рукопись «Бр(атьев) Кар(амазовых)» за 150 тыс(яч) рублей», лишь в 1941–1943 гг., в период немецкой оккупации Крыма, в какой-либо коллаборационистской газете, например симферопольской газете «Голос Крыма», возможно – в связи с известием о самоубийстве Цвейга в Бразилии. Только в такой газете, по условиям времени, и могло быть напечатано сообщение, что беловой автограф «Братьев Карамазовых» продан за рубеж сталинским руководством» [15, с. 784–785].
Задающий вектор дальнейшего поиска императив Б. Н. Тихомирова «необходимо искать симферопольскую газету 1941–1943 гг., на которую ссылается А. П. Фальц-Фейн» [15, с. 786], был воспринят автором настоящей статьи как руководство к действию. Сообразно уточненным временным вводным, объектом изучения были избраны сохранившиеся в Государственном архиве Республики Крым подшивки газеты «Голос Крыма» с 12 декабря 1941 года (дата выхода первого номера) по сентябрь 1943 года включительно (именно в этом месяце сестры А. П. Фальц-Фейн и Е. П. Достоевская навсегда покинули Симферополь).
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ
Не вызывает сомнения, что пребывающие в оккупированном Крыму потомки рода Достоевского были знакомы с содержанием крупнейшей на полуострове коллаборационистской газеты. Во-первых, в «Голосе Крыма» (органе Симферопольского городского управления с изначально предполагаемым названием «Симферопольский вестник») публиковались актуальные материалы (постановления городского управления, объявления коменданта Симферополя и т. п.), касающиеся уклада жизни местного населения[2].
Во-вторых, особое внимание уделялось запросам культурно просвещенного читателя[3]. Выпустив 6 двустраничных номеров в 1941 г., редакция взяла курс на дальнейшее расширение тематики статей. В первом номере от 01.01.1942 сообщалось, что с нового года издания в «Голосе Крыма» «будет отведено должное место и литературе»[4]. В укрупненных – четырехстраничных – номерах 1942–1944 гг., как и планировалось, появились литобзоры, материалы, приуроченные к памятным датам известных мировых писателей и поэтов. Печатались и статьи о значении Ф. М. Достоевского в русской культуре; приводились цитаты из его романов и «Дневника Писателя»; обозначались отдельные события, связанные с сохранением памяти классика.
В-третьих, в номере от 16 августа 1942 г. была размещена заметка Ф. Павловского «Наш долг», в которой наряду с другими «уцелевшими в Крыму за время господства большевиков ˂…˃ потомками и родственниками великих русских людей» упоминалась Е. П. Достоевская[5].
Примечательна стилистическая неоднородность текста с этим упоминанием. Если при указании на внучатую племянницу Ф. И. Тютчева (О. К. Волчан) или на вдову М. С. Волошина (М. А. Волошину) автор фиксирует их инициалы; при аттестации сестры А. П. Чехова расшифровывает ее имя и отчество (Марья Павловна)[6]; при представлении внука Л. Н. Толстого пишет «Николай Толстой», а мать последнего обозначает «Анной Александровной Толстой»; то при включении в этот ряд Екатерины Петровны вовсе избегает ее как полного, так и сокращенного имени: «В Симферополе проживают: ˂…˃ госпожа Достоевская, вдова сына Ф. М. Достоевского ˂…˃»[7]. Возможно, отсутствие инициалов было связано с тем, что информационным источником для заметки Ф. Павловского стала охранная табличка на немецком языке («Здесь живет невестка писателя Достоевского…» [10, с. 251]), установленная на двери симферопольской квартиры Екатерины Петровны[8]. Иным возможным объяснением может быть и то, что «в 1942 г. в Крыму появилась бывшая жена Милия Федоровича Достоевского – внука старшего брата писателя, М. М. Достоевского. Она сумела получить оккупационный вид на жительство под фамилией «Достоевская», хотя была женой Милия Федоровича всего лишь три месяца и давно уже носила девичью фамилию. Фамилию «Достоевская» она использовала для предательских выступлений по радио и в печати» [10, с. 252].
Набирающая обороты медийная активность лже-Достоевской (Е. А. Щукиной) была сопряжена со знакомствами в крымской коллаборационисткой среде. В частности, вслед за Н. Н. Богдановым, в круге ее контактов стоит отметить Дмитрия Кленовского (Крачковского)[9] – «известного деятеля русского зарубежья (бывшего секретаря редакции ˂…˃ газеты «Голос Крыма», выходившей в оккупированном фашистами Симферополе» [1, с. 150]. Клеветничество авантюристки, безусловно, внесло сумятицу в представления общественности о потомках Ф. М. Достоевского в Крыму. Именно поэтому отсутствие инициалов в газетной заметке Ф. Павловского можно интерпретировать и как намеренное избавление от конкретики, породившей сомнения автора.
Среди сотрудников «Голоса Крыма», однако, были и те, кто целенаправленно интересовался крымскими представителями родословия Ф. М. Достоевского и/или имел с ними близкие контакты. Так, в феврале-марте 1943 г. «после отступления немецких частей с Северного Кавказа состав редакции «Голос Крыма» меняется: в Симферополь из городов Кавказа прибыли немецкие пропагандисты» [7, с. 160–161], среди которых – Л. Н. Польский и Е. Б. Польская (Меркулова). Последняя была подругой юности А. Ф. Достоевского и автором воспоминаний «Внук писателя и его мать: Достоевские в Симферополе в 1928–1932 гг.» [11]. В журнальном предисловии к указанному тексту Е. Б. Польской отмечается, что он до 1983 г. «нигде не публиковался и хранился у правнука писателя Дмитрия Андреевича Достоевского, который и предоставил его для публикации» [11, с. 128]. В этих дружеских воспоминаниях зафиксированы штрихи психологических портретов А. Ф. Достоевского, Е. П. Достоевской и А. П. Фальц-Фейн, некоторые подробности крымской жизни потомков писателя. Вполне вероятно, что тематически сопряженные материалы могли быть предоставлены Е. Б. Польской и для «Голоса Крыма», однако ее сотрудничество с этой газетой длилось около полугода и, думается, предполагало сосредоточенность, прежде всего, на политических событиях[10].
По свидетельству А. А. Кохана, «17 июля 1942 г. заведующим отделом «Местная жизнь» был назначен ˂…˃ С. П. Наумов», который «накануне войны работал редактором Крымского отделения ТАСС, кроме того, по заданию журнала «Литературное наследство» готовил статью «Достоевский в Крыму»» [8, с. 119]. Информация о подготовке научной работы была взята А. А. Коханом из хранящегося в Архиве УФСБ по РК и г. Севастополя Протокола допроса С. П. Наумова от 04 июня 1944 года. В сводном именном указателе «Литературного наследства» такой автор не значится (см.: [9]), следовательно, планируемая статья не была опубликована и установить, кому именно из родственников Ф. М. Достоевского – брату, сыну или внуку – она посвящалась, сегодня не представляется возможным.
Воспоминания С. П. Наумова о становлении крупнейшего в Крыму печатного органа немецкой пропаганды (см.: [8, с. 120]) дает основание полагать, что он стоял у истоков «Голоса Крыма». Возможно, его сосредоточенность на крымских вехах биографии родственников великого писателя и стала одной из причин появления в номере крымской газеты от 26 апреля 1942 г. сообщения о том, что «германские власти отметили мемориальной доской дом в Старой Руссе, в котором жил Ф. М. Достоевский»[11]. Безусловно, эта новость, «короткой строкой» размещенная в рубрике «Разные сообщения», не столько регионально, сколько концептуально соответствовала общему механизму немецкой пропаганды. Любопытно и то, что сохранению памяти Ф. М. Достоевского и его художественным пророчествам оккупанты уделяли особенное внимание.
Цитаты из «Дневника Писателя» традиционно вводились в антисемитские статьи «Голоса Крыма»[12]. Например, в перепечатанной из газеты «Новое слово» статье И. Горского «Евреи и русская литература» выдержка из моножурнала Ф. М. Достоевского выполняла функцию эпиграфа, а венчало этот материал воспоминание журналиста о разговоре «в конце сентября 1941 года с одним крупным русским прозаиком, честным человеком: его книги переведены на все европейские языки. Горестно качая головой, писатель заметил: “Страшное время мы переживаем. Знаете, я боюсь перечитывать Достоевского. Он так пророчески написал о нашем времени, как будто был нашим современником. Кругом шигалевщина, во главе шигалевщины евреи, а русскому человеку дышать нельзя. Воздуху нет”…»[13].
Корреспонденты «Голоса Крыма» регулярно упрекали советскую власть в том, что она отправила Ф. М. Достоевского, по слову А. П. Фальц-Фейн, «на карантин», тем самым нарочито подчеркивая «культурную прогрессивность» Германии. Так, в статье «Хорошее начало», опубликованной в номере от 15 августа 1942 г., некто В. Федоров, восторженно сообщал о включении в сетку регионального радиовещания целевой литературной передачи: «Это тем более необходимо, что большевики в течение 2-х десятилетий всячески старались исказить подлинные образы таких корифеев нашей литературы, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, или создавали вокруг них «заговор молчания» подобно тому, как это было сделано ими в отношении Достоевского»[14].
Художественные пророчества классика закономерно «подверстывались» под коллаборационистскую повестку «Голоса Крыма». Например, Георгий Инсаров (наст. имя – Георгий Барятинский), интерпретируя идеи «Бесов» в номере от 14 июля 1942 г., заключал: «…гениальный прозорливец, Достоевский, в этом романе с исключительной художественной силой вскрыл неизбежную трагическую судьбу русского народа и России»[15].
Публиковались, тем не менее, и лишь отчасти заидеологизированные суждения о текстах Ф. М. Достоевского. В приложении к «Голосу Крыма» «Молодость» от 15 сентября 1943 г. печатное слово о создателе «Идиота» и «Братьев Карамазовых» предоставлялось скрывающемуся под псевдонимом Лир «юноше, только что окончившему среднюю школу» (статья «Достоевский в наши дни»)[16]. Представитель молодого поколения утверждал: «На старце Зосиме, князе Мышкине нам нужно учиться любви к людям, на Алексее Карамазове мы можем понять и полюбить жизнь настоящего христианина; на «Подростке» нам следовало бы узнать, как совершается переход от атеизма к вере. Нам нужно усвоить слова старца Зосимы «Буди, буди», касающиеся светлого будущего людей и веры их в него»[17]. Однако мысль юноши о духовной составляющей благодатного «завтра», согласно требованиям фашистской пропаганды, дополнялась политическими обертонами: «Мы сами должны сказать, что счастье в нас самих, в Новой России и будущем ее, и что оно «буди, буди»»[18].
Имя Достоевского в нарицательном значении «вершина литературного мастерства» использовалось в работах главного редактора «Голоса Крыма», занимавшего эту должность с марта 1942 по октябрь 1943 гг. Для выпускника филологического факультета Санкт-Петербургского университета, Александра Ивановича Булдеева, было свойственно писать о выдающихся литераторах в сравнении с Ф. М. Достоевским[19]. Например, в статье «Высшая радость (религиозные образы у Чехова)» он утверждал: «Если Достоевский прямо не оказал влияния на Чехова, то он воздействовал на него через Мусоргского, которого по справедливости можно назвать Достоевским в музыке…»[20]. В предисловии к статье «Шиллер», напечатанной в номере от 9 мая 1943 г., А. И. Булдеев вновь обращался к излюбленному приему и начинал текст с апелляции к «одному изумительному месту» «Братьев Карамазовых» – главе «Исповедь горячего сердца». Он был убежден, что «…никакому критику и исследователю литературы не удастся так, как это удалось Достоевскому, передать потрясающую силу безмятежно спокойной по внешности поэзии великого германского поэта, память о котором мы чтим в 138-ю годовщину со дня его смерти»[21].
На знаковые даты выдающихся деятелей литературы и искусства «Голос Крыма» традиционно отзывался заметками либо статьями. Именно поэтому гипотеза Б. Н. Тихомирова о том, что сообщение о продаже белового варианта «Братьев Карамазовых» могло возникнуть «в связи с известием о самоубийстве Цвейга в Бразилии» вполне соответствовало концепции и «достоевскоустремленности» издания, а потому воспринималось нами весьма многообещающе. Февральские выпуски «Голоса Крыма» за 1942 и 1943 гг. просматривались автором настоящей статьи с особой тщательностью. Однако поиск не дал позитивного результата: ни о смерти Цвейга, ни о дне его памяти в указанных номерах «Голоса Крыма», которыми располагает Крымский государственный архив, нет сведений. К сожалению, сообщение, прочитанное А. П. Фальц-Фейн, не было обнаружено и в других подшивках коллаборационистской газеты с 12 декабря 1941 года по сентябрь 1943 года включительно.
Это, безусловно, не обозначает, что в «Голосе Крыма» искомый материал отсутствует вовсе. В качестве положительной погрешности нужно принимать то, что некоторых номеров газеты нет в архивных фондах. Их отсутствие может быть связано с непростой историей издания, ведь, как отмечает С. А. Филимонов, «в послевоенном Крыму практически все подшивки этой газеты были уничтожены. Единичные уцелевшие подшивки в течение полувека содержались в режиме так называемого «специального хранения» и только в начале 1990-х годов были рассекречены. С тех пор внимание исследователей к этому историческому источнику неуклонно растет. Но, в силу указанных выше причин, немало содержащихся в газете ценных для истории науки и культуры публикаций до сих пор остаются запретно-забытыми и неизвестными даже специалистам» [16].
ВЫВОДЫ
Несмотря на то, что в оккупированном Крыму издавалась и иная профашистская периодика,[22] которая гипотетически могла быть доступна библиотекарю А. П. Фальц-Фейн, «газета «Голос Крыма» значительно отличалась от других оккупационных газет достаточно высоким художественным уровнем оформления многих материалов» (цит. по: [12, с. 384]), сосредоточенностью на судьбе исторических и культурных ценностей[23], частыми апелляциями к творчеству и биографии Ф. М. Достоевского. Именно поэтому верификация гипотезы Б. Н. Тихомирова о связи «Голоса Крыма» с «цвейговской версией» исчезновения рукописи «Братьев Карамазовых» должна быть продолжена, во-первых, с учетом отсутствующих в Государственном архиве Республики Крым номеров газеты; во-вторых, с привлечением иных периодических изданий, доступных симферопольцам в период немецкой оккупации.
References
- Bogdanov N. N. “…Litsa neobshchim vyrazheniem…”. Rodstvennoe okruzhenie F. M. Dostoevskogo [“…Faces with an uncommunicative expression…”. Related environment of F. M. Dostoevsky]. Moscow, Staraya Basmannaya Publ., 2011. 352 p.
- Bogdanov N. N. “Ne volny my v sudbe svoey…”. Dostoevskie i Krym [“We are not free in our fate…”. Dostoevskys and the Crimea]. Znanie-sila, 2017 (July), pp. 75–83.
- Buldeev A. I. F. Annenskiy kak poet [Annensky as a poet]. Innokentiy Annenskiy glazami sovremennikov. K 300-letiyu Tsarskogo Sela [Innokenty Annensky through the eyes of his contemporaries. On the 300th anniversary of Tsarskoye Selo]. Rostok Publ., 2011, pp. 444–464.
- Zyabreva G. A. Koncept “Krym” v tvorcheskom soznanii F. M. Dostoevskogo [The concept of “Crimea” in the creative consciousness of F. M. Dostoevsky]. Uchenye zapiski Krymskogo federalnogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Filologicheskie nauki, 2018, vol. 4 (70), no. 3, pp. 3–13.
- Kapustina S. V. Krymskie motivy v tvorchestve F. M. Dostoevskogo [Crimean motifs in the works of F. M. Dostoevsky]. Problemy istoricheskoy poetiki, 2025, vol. 23, no. 1, pp. 139–164.
- Kapustina S. V. Venchanie v Simferopole (F. F. Dostoevskiy i Ye. P. Tsugalovskaya) [Wedding in Simferopol (F. F. Dostoevsky and Ye. P. Tsugalovskaya)]. Neizvestnyi Dostoevskiy, 2025, vol. 12, no. 1, pp.195–209.
- Kokhan A. A. “Moya ideologiya byla chuzhda ideologii sovetskogo cheloveka”: k voprosu o sostave i deyatelnosti redaktsionnyh kollegiy gazety “Golos Kryma” v 1941–1944 gg. [“My ideology was alien to the ideology of the Soviet man”: on the issue of the composition and activities of the editorial boards of the newspaper “Golos Kryma” in 1941-1944.]. Vestnik Rossiyskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta. Seriya: Literaturovedenie. Yazykoznanie. Kulturologiya, 2016, no. 10 (19), pp. 154–164.
- Kokhan A. A. Struktura i funkcionirovanie organov germanskoy propagandy v Krymu: 1941–1944 gg. [The structure and functioning of German propaganda organs in Crimea: 1941-1944], St. Petersburg, 2019, 395 p.
- “Literaturnoe nasledstvo” za 80 let. Ukazateli k tomam 1–103 za 1931–2011 gody [“Literary heritage” for 80 years. Indexes to volumes 1-103 for 1931-2011]/Edit. by A. Yu. Galushkin, O. A. Korostelev. Moscow, Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2018, 927 p.
- Pisma iz Maison Russe. Sestry Anna Falts-Fein i Yekaterina Dostoevskaya v emigratsii [Letters from Maison Russe. Sisters Anna Falz-Fein and Ekaterina Dostoevskaya in exile]. Edit. by B. N. Tikhomirov St. Petersburg, Akropol Publ., 1999, 350 p.
- Polskaya Ye. B. Vnuk pisatelya i ego mat: Dostoevskie v Simferopole v 1928–1932 gg. [The writer’s grandson and his mother: Dostoevsky in Simferopol in 1928-1932]. Mera, 1995, no.1, pp. 129–138.
- Romanko O. V. Krym pod pyatoy Gitlera. Nemeckaya okkupacionnaya politika v Krymu (1941–1944) [Crimea is under Hitler’s thumb. German occupation policy in Crimea (1941-1944)]. Moscow, Veche Publ., 2011, 432 p.
- Russkiy yazyk v Krymu i “Russkiy yazyk v polikulturnom mire”: 10-letiyu Krymskoy vesny posvyashchaetsya [Russian language in Crimea and “The Russian language in the multicultural world”: Dedicated to the 10th anniversary of the Crimean Spring]. T. V. Arzhanceva, I. P. Zayceva, N. I. Ivanyuk [and other]. Simferopol, Krymskiy federalnyi universitet imeni V. I. Vernadskogo Publ., 2024, 264 p.
- Saraskina L. I. “Nado skazat pravdu”: F. M. Dostoevskiy i ego sovremenniki v spore ob itogah Krymskoy kampanii [“We must tell the truth”: Fyodor Dostoevsky and his contemporaries in a dispute over the results of the Crimean campaign]. Dostoevskiy i mirovaya kultura. Filologicheskiy zhurnal, 2023, no. 1 (21), pp. 96–140.
- Tikhomirov B. N. Zagadka ischeznuvshih rukopisey “Bratiev Karamazovykh” (fakty i gipotezy) [The mystery of the missing manuscripts of the Brothers Karamazov (facts and hypotheses)]. Roman F. M. Dostoevskogo “Bratiya Karamazovy”: sovremennoe sostoyanie izucheniya.. Moscow, Nauka Publ., 2007, pp. 765–796.
- Filimonov S. B. Zapretno-zabytyi istoricheskiy istochnik vremen Velikoy Otechestvennoy voyny: maloizvestnye publikacii po istorii kultury na stranitsah gazety “Golos Kryma” (1941–1944 gg.) [A forbidden and forgotten historical source from the time of the Great Patriotic War: little-known publications on the history of culture on the pages of the newspaper “Golos Kryma” (1941–1944)]. Available from: https://mil.sevhome.ru/voenistor/crimwow/okkupazcrimea/s-filimonov-simferopol-zapretno-zabytyj-istoricheskij-istochnik-vremen-velikoj-otechestvennoj-vojny-maloizvestnye-publikacii-po-istorii-kultury-na-stranicah-gazety-golos-kryma/ (accessed 5 July 2025).
[1] Подробнее о тесной сопряженности литературоведения и крымоведения см.: [13].
[2] В письме к А. Чезана от 27 декабря 1952 г. А. П. Фальц-Фейн, рассказывая о мечте «жить столетие назад», выразительно охарактеризовала свою острую потребность в чтении периодики: «˂столетие назад˃ Не было газет, которые отравляют жизнь, но без этого наркотика уже нельзя больше жить» [10, с. 94–95].
[3] Кроме того, тематика некоторых статей газеты была связана с профессиональной сферой деятельности А. П. Фальц-Фейн, которая писала в письме А. Чезана, что «закончила курсы и получила свидетельство научного библиографа и библиотекаря», а «когда пришли немцы» работала в библиотеке Института защиты растений [10, с. 42] (имеются в виду статьи, вроде «К открытию Центральной библиотеки» (ГК от 22 февраля 1942 г.); «Лучшая библиотека Крыма» (ГК от 27 сентября 1942 г.) и мн. др.).
[4] Государственный архив республики Крым (далее – ГАРК), ф. П – 156, оп. 1, д. 26. «Голос Крыма» от 01 января 1942 г.
[5] ГАРК, ф. П – 156, оп. 1, д. 26. «Голос Крыма» от 16 августа 1942 г.
[6]В «Голосе Крыма» нередко появлялись короткие сообщения о судьбе перечисленных персоналий. Например, в номер от 18 октября 1842 г. была помещена заметка о болезни М. П. Чеховой; в номере от 28 октября 1942 г. было опубликовано письмо М. С. Волошиной, в котором она выражала редакции «глубокую благодарность ˂…˃ за внимание к памяти ˂…˃ покойного мужа ˂…˃ и за оказанную ˂…˃ помощь». Подобных материалов о Е. П. Достоевской обнаружено не было.
[7] ГАРК, ф. П – 156, оп. 1, д. 26. «Голос Крыма» от 16 августа 1942 г.
[8] Так как выяснить точную дату появления этой таблички на двери квартиры Е. П. Достоевской не удалось, то допусти́м и обратный вариант развития событий (допустим, но хронологически менее рационален, ведь процесс расквартировки преимущественно проходил в начале оккупации Симферополя, т. е. в ноябре-декабре 1941 г.). Маловероятно, но охранное свидетельство могло стать следствием публикации Ф. Павловского, ратующего за то, чтобы «напомнить обществу и Городским управлениям о том, что этим людям ˂»потомкам и родственникам великих русских, памяти которых должна быть признательна грядущая новая Россия»˃ надо прийти на помощь» [ГАРК, ф. П – 156, оп. 1, д. 26. «Голос Крыма» от 16 августа 1942 г.].
[9] По сведениям А. А. Кохана, Д. И. Кленовский (Крачковский) «контролировал работу всех отделов редакционной коллегии, вычитывая статьи, которые готовились к печати» [8, с. 119].
[10] Как отмечает А. А. Кохан, «В октябре 1943 г. началась массовая эвакуация сотрудников «Голоса Крыма» сначала в Николаев, затем в Одессу, а оттуда в Румынию или Германию. Некоторые из журналистов продолжили свою работу в изданиях РОА. Так, в 1944 г. Польский переехал в Берлин, где под руководством военной пропаганды начал выпускать «Казачий клич»» [8, с. 126].
[11] ГАРК, ф. П – 156, оп. 1, д. 26. «Голос Крыма» от 26 апреля 1942 г.
[12] Подробнее об этом см.: Тяглый М. М. Антисемитская доктрина и её место в пропагандистской модели, реализованной нацистами в оккупированном Крыму // Историческое наследие Крыма. 2004. №5. С. 180–204.
[13] ГАРК, ф. П – 156, оп. 1, д. 26. «Голос Крыма» от 14 июня 1942 г.
[14] ГАРК, ф. П – 156, оп. 1, д. 26. «Голос Крыма» от 15 августа 1942 г.
[15] ГАРК, ф. П – 156, оп. 1, д. 26. «Голос Крыма» от 14 июля 1942 г.
[16] ГАРК, ф. П – 156, оп. 1, д. 26. «Голос Крыма» от 15 сентября 1943 г.
[17] Там же
[18] Там же
[19] Будучи участником кружка пропагандистов творчества И. Ф. Анненского, А. И. Булдеев написал статью «И. Ф. Анненский как поэт», которую начал со сравнения Анненского с Достоевским: «Трудно отыскать другого писателя, сходного с ним; ближе всего он, по-видимому, стоял к Достоевскому» [3, с. 444].
[20] ГАРК, ф. П – 156, оп. 1, д. 26. «Голос Крыма» от 25 апреля 1943 г.
[21] ГАРК, ф. П – 156, оп. 1, д. 26. «Голос Крыма» от 9 мая 1943 г.
[22] О. В. Романько отмечает по этому поводу: «За период немецкой оккупации на территории Крыма выходили следующие периодические издания: это газеты «Голос Крыма», «Феодосийский вестник», «Евпаторийские известия», «Сакские известия», «Земледелец Тавриды», «Крымская немецкая газета» (на немецком языке), «Свободный Крым» (на татарском языке) и журнал «Современник»» [12, с. 382].
[23] Изображение большевиков как невежд и разрушителей «Голос Крыма» осуществлял на контрасте с якобы бережно относящимися к реликвиям германскими войсками. Например, в номере от 30 декабря 1942 г. сообщалось, что «в одном из комиссионных магазинов в числе продаваемых вещей появился большой мраморный бюст Екатерины II», который ранее «был приобретен для украшения фойе Симферопольского городского театра и в течение нескольких лет, как подлинное художественное произведение, находился на своем месте, пока не появились большевики, и городской театр не превратился в очаг «пролетарского» искусства» [ГАРК, ф. П – 156, оп. 1, д. 26. «Голос Крыма» от 30 декабря 1942 г.]. 9 января 1944 г. в рубрике «Со всего света» был размещен материал о том, что «Германское командование передало папским властям в Риме бесценную библиотеку и архив Бенедиктинского монастыря Монте-Кассино» [ГАРК, ф. П – 156, оп. 1, д. 26. «Голос Крыма» от 9 января 1944 г.] и т. п.