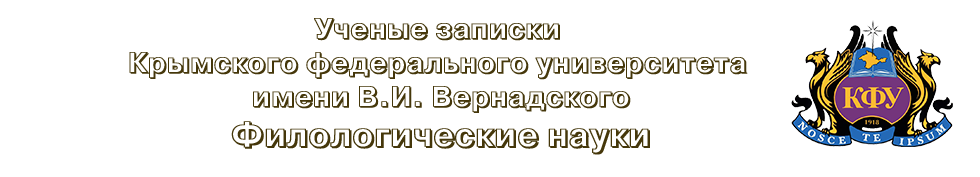«THESE NOTES SHOULD HAVE BEEN WRITTEN IN BLOOD, NOT INK»: PETER ALABIN’S CORRESPONDENCE FROM BESIEGED SEVASTOPOL
JOURNAL: «Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philological sciences», Volume 11 (77), № 3, 2025
Publication text (PDF): Download
UDK: 070.11:94(477.75) «1853/1856»
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:
Boyarkina N. V., V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation
TYPE: Article
DOI: https://10.29039/2413-1679-2025-11-3-129-142
PAGES: from 129 to 142
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: Peter Alabin, Crimean War, defense of Sevastopol, «Severnaya pchela», frontline diary.
ABSTRACT (ENGLISH): The name of Pyotr Vladimirovich Alabin is widely known as the historiographer of the Crimean War and the initiator of the creation of the Sevastopol Defense Museum. Throughout the campaign, he kept a frontline diary, which academician E. V. Tarle considered «truthful and precious to the historian». However, officer Alabin wrote notes not only as material for a future military historian, but also to inform his contemporary about what was happening in the theater of military operations. He created his diary not only as a military memoirist, but also as a journalist. The study of the Alabin’s correspondence in the leading information resource of the Russian Empire – the newspaper «Severnaya Pchela», allows to expand the understanding of the journalistic searches of the Crimean War period as the time of the origin and rapid development of Russian military journalism. This article analyzes Alabin’s correspondence from besieged Sevastopol and establishes their main feature – cinematography.
ВВЕДЕНИЕ
На прошедший, 2024 г., выпало два важных юбилея – 170-летие начала Первой героической обороны Севастополя и 200-летие со дня рождения ее знаменитого участника Петра Владимировича Алабина. Этот севастопольский ветеран, особо отличившийся в Инкерманской битве 24 октября 1854 г., при защите города 17 апреля 1855 г. и при штурме Севастополя 27 августа 1855 г.[1] [4], как известно, внес весомый вклад в историографию Крымской войны (его походные записки академик Е. В. Тарле считал «правдивыми и драгоценными для историка» [20]), а также инициировал создание музея Севастопольской обороны[2] [21], став одним из его организаторов.
Идею о необходимости собирать подробные сведения о героической обороне Севастополя Алабин впервые высказал в одной из своих корреспонденций из осажденного города еще в октябре 1855 г.:
«Севастопольских защитников ждут вещие струны Баяна: они, будет время, еще прогремят миру чудную повесть дивных подвигов. И чтобы не погибло ни одной сколько-нибудь замечательной частности этой необыкновенной эпопеи для современников и потомков, каждый из защитников Севастополя обязан рассказывать то, чему был свидетелем, то, в чем он принимал участие, то, о чем слышал от верного человека» [16].
Сам Алабин на протяжении всей кампании вел походный дневник, который впервые был опубликован в 1861 г., а затем переиздан в составе большого труда «Четыре войны. Походные записки в 1849, 1853, 1854–1856, 1877–1878 годах» (1888–1893) [1].
«Программа» Алабина как хроникера базировалась на нескольких основных положениях: передавать то, чему он был личным свидетелем, а также рассказы своих боевых товарищей – очевидцев и участников дела; подробно и точно («с математической точностью») излагать обстоятельства событий, в которых участвовали полки его дивизии; не изменять написанного ни по каким причинам, сохраняя первоначальный вариант изложения как непосредственный оттиск совершающихся событий.
Основная цель ведения дневника – фиксация происходящего. Алабин сетует, что «мы не знаем и сотой доли совершающегося вокруг нас» [1, с. 469], а потому нужно пытаться сохранить максимально больше частностей и подробностей как основы для работы будущего военного историка.
Но офицер имеет и более близкую цель – он пишет материал не только для будущего исторического труда, но и для текущей минуты. В корреспонденции от 6 октября 1855 г., извиняясь за безыскусность изложения, Алабин говорит, что отделкой текстов нет времени заниматься:
«Спешим их сообщить потому, что знаем, с каким нетерпением ждет Россия-матушка самых мелочных подробностей о нашем здесь пребывании, о нашей здесь борьбе с недругом» [14].
Чтобы тыловая Россия получала столь востребованную информацию, Алабин отправлял фрагменты походного дневника в газету «Северная пчела», с которой был связан предыдущими публикациями: в этом издании печатались его походные записки периода Венгерского похода русской армии 1849 г. [3] Немаловажно, что Алабин предоставлял редакции и другие материалы, увековечивавшие севастопольскую эпопею. Так, в приложении к дневнику содержится рассказ о подпоручике Николае Васиче и сообщается, что автором направлялась для опубликования в «Северной пчеле» выборка стихотворений этого героя, однако не была использована редакцией. Отдельные опубликованные материалы походных записок написаны в форме, явно выпадающей из дневникового дискурса. В то же время некоторые тексты, не вошедшие в дневник и не являющиеся его частью, предназначались специально для печати. Таковы, в частности, очерк об унтер-офицере Василии Чумаченко, помещенный в «Художественном листке» за 1857 г. (№ 17), статья о встрече возвращающихся с войны Камчатского и Охотского полков в городе Воронеже, опубликованная в «Северной пчеле» за 1856 г. (№ 185). Все это свидетельствует о том, что Алабин, создавая летопись Первой героической обороны Севастополя, работал не только как военный мемуарист, но и как журналист.
Журналистские поиски периода Крымской войны закономерно становились предметом исследования, учитывая, что именно в эту кампанию в России зародилась и начала стремительно развиваться военная журналистика. Предприняты труды, посвященные функционированию и развитию нормативной базы института цензуры в рассматриваемый период [22]; отражению хода кампании на страницах различных периодических изданий [8, с. 311–363]; комплексному анализу освещения Крымской войны русской периодикой [9]; отдельным авторам, сообщавшим прессе о ходе севастопольской эпопеи [10; 11]. В том числе в отечественной научной литературе затрагивалась тема освещения событий Крымской войны Петром Алабиным [9] и газетой «Северная пчела» [5; 6; 23]. Последняя, между прочим, относила к числу своих заслуг организацию регулярного предоставления читателям военной информации – «заведение постоянной корреспонденции <…> на местах военных действий прошлого времени» [19]: у издания имелись свои собственные постоянные корреспонденты, которые систематически направляли материалы из тыловых Симферополя и Ялты и из сражающегося Севастополя. Таким постоянным корреспондентом, писавшим из действующей армии, был Петр Алабин. В то же время алабинские корреспонденции не становились предметом подробного анализа, который может дать важный материал для изучения способов освоения реальности войны и жанрового поиска в сфере военной публицистики.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ
Петр Алабин в составе 11-й пехотной дивизии прибыл в Крым с Дунайского театра военных действий в середине октября 1854 г. В своих записках офицер отмечает, что переброска войск была беспримерной по скорости: шли почти без привалов. Напряженность перехода, вызванная необходимостью скорее поспеть в Севастополь, казалось, отражалась и на публикации походных записок офицера: корреспонденции о движении войска от молдавских Скулян до Перекопа размещались в «Северной пчеле» почти подряд в семи номерах газеты за 1855 г. (№№ 31–34, 36, 80, 81).
В середине октября 1854 г. (15 числа) полки 11-й дивизии зашли на полуостров через Перекоп и через шесть дней вступили в долину Черной речки, чтобы принять участие в своем первом деле – Инкерманском сражении. В дальнейшем весь период осады дело защиты левой половины Севастополя принадлежало 11-й пехотной дивизии, участвовавшей почти во всех событиях обороны этой части города.
В записках Алабин кратко очертил боевой путь своего подразделения:
«Мы, одни из первых поспевшие на театр военных действий в Валахию, первые приняли на свою грудь напряженные удары вражьи; семь месяцев потом с ружьем в руке оберегали берега Дуная, не раз испытывая кровавые встречи с недругом; мы поспели к осаде силистрийской, – поспели, чтобы усеять своими костями высоты Инкерманские; чтобы восемь месяцев сбирать на стогнах Севастопольских обильную жатву лавров; чтобы вписать имена своих полков в скрижаль народной памяти; чтобы сделать незабвенными русскому сердцу неоконченные валы Селенгинского редута, французские апроши к Камчатскому люнету, траншеи Зеленой горы и вечно памятный Третий бастион!» [1, с. 645–646].
В одной из записей фронтового дневника офицер приводит приказ генерал-лейтенанта Хрулева с перечислением главных боевых операций марта–августа 1855 г., в которых участвовали и отличились полки 11-й дивизии: это, в частности, отбитие нападения французов на едва начатый Селенгинский редут в ночь с 10-го на 11-е февраля; отражение натисков неприятеля на Камчатский редут в ночь с 5-го на 6-е марта и в ночь с 10-го на 11-е марта; ночной бой Камчатского полка с неприятелем перед 3-м бастионом 26-го мая; штурм 6-го июня, который стал «наградою 11-й дивизии за тяжкую службу в Севастополе, ибо всем полкам этой дивизии досталась своя доля славы»: «Так, якутцы помогли вырвать батарею Жерве из рук врага, на мгновение восторжествовавшего; селенгинцы помогли отбить его повторенную атаку от оборонительной стенки и бастиона № 2-го; камчатцы были участниками в отбитии атаки англичан от бастиона № 3-го и произвели опустошение в толпах французов, занявших батарею Жерве; наконец, охотцы выбросили врага штыками с батареи Брылкина, и трупами врага устлали пространство перед ”Пересыпкою”» [1, с. 527].
Два из перечисленных сражений описаны в газетных публикациях, а именно: отбитие атаки на Селенгинский редут и штурм 6-го июня после четвертого бомбардирования города. Кроме того, в газетных корреспонденциях отражены такие события в истории севастопольской обороны и участия в ней 11-й пехотной дивизии, как вылазки в ночь на 1 января 1855 г. и в ночь с 29 на 30 апреля 1855 г. силами Охотского егерского полка, как раз отмеченного в приказе Хрулева «рядом самых отважных вылазок». Таким образом, тематически газетные корреспонденции на основе алабинских походных записок освещают четыре чрезвычайно важных эпизода севастопольской обороны. Кроме того, отдельный очерк обрисовывает общую картину борьбы осажденного города. Хронологически корреспонденции охватывают период с 1 января 1855 г. по начало июня 1855 г.; последнее описываемое событие – четвертое генеральное бомбардирование города, за которой последовал общий штурм.
Записки из осажденного города публикуются в девяти номерах газеты за 1855 г. и в первом номере за 1856 г. Некоторые очерки велики по объему и помещаются в нескольких номерах, в частности, рассказ о бомбардировании и штурме города публикуется в трех газетных выпусках. В этом случае редакция старается давать их в смежных номерах. При этом значимым алабинским корреспонденциям нередко отводится все приложение «Пчелка».
При публикации походных записок редакция не придерживается хронологического принципа, очерки помещаются в газете не в хронологической последовательности, что может свидетельствовать о стремлении газеты отдавать приоритет описанию наиболее масштабных событий. Например, обобщающий очерк о севастопольской беспримерной борьбе помещается в газете раньше записок об обустройстве Селенгинского редута; о четвертом бомбардировании 5 июня 1855 г. – раньше вылазки в ночь на 30 апреля 1855 г.
Возможно, также, что сам Алабин отправлял рукописи в редакцию не в хронологическом порядке; иные из них могли требовать сбора дополнительных данных и, соответсвтенно, задерживались. Так, рассказ о создании Селенгинского редута содержит более поздние тексты – выдержки из реляций, опубликованных в союзнических газетах, которые офицер получил гораздо позже и которые в тексте походных записок появляются в отдельной записи спустя месяц после события.
Отметим, что в целом газетные тексты Алабина содержат не так много отличий от текста записок. Например, в одной газетной корреспонденции опущен небольшой фрагмент с характеристикой нашего оружия: изъяты слова о том, что мы вооружены хуже противника; у нашей пехоты в основном гладкоствольные ружья, а потому мы уступаем в эффективности ружейного огня, хотя при наличии чтуцеров наши стрелки превосходят неприятеля. Можно предположить, что этот фрагмент был вымаран либо редакцией по цензурным соображениям, либо самим автором – по соображениям объяснимой в военное время «самоцензуры».
Из опубликованных в газете записок особую ценность представляет повествование о четвертой генеральной бомбардировке и последовавшем затем общем штурме города, которое в дневнике Алабина также дополняется сведениями о перемирии для уборки трупов. Это самая пространная из алабинских корреспонденций, которая помещена в трех номерах газеты за 1855 г.: №№ 221, 262 и 263.
Петр Алабин занимал штатную должность штабного офицера. В записях из походного дневника он расшифровывал, что входило в обязанности его как полкового адъютанта: передача распоряжений и приказаний; сбор различных сведений по отделению с целью надзора за исполнением распоряжений и проверки способа исполнения; ежедневный доклад начальству о происходящем в отделении; составление отчетов; подготовка представлений к наградам и т. п. Так, имея доступ к информации, в частности о потерях в войсках, Алабин сопровождает свои записи о боевых операциях такого рода сведениями.
Положение штабного офицера, которое обязывало Алабина, с одной стороны, знать общее положение дел, иметь представление о принятых диспозициях и даваемых распоряжениях, а с другой – знать и выяснять роль и степень участия каждого из действующих лиц, во многом определило характер его походных записок. Повествование в них строится на умелом, талантливом сочетании планов: у Алабина общий план дополняется крупным планом, общая картина события, панорама всегда включают показ отдельных деятелей – в эпизодах, в лицах, в речевом проявлении.
Эта особенность ярко выражена в корреспонденции Алабина о событиях 5–6 июня 1855 г. Очеркист сообщает, что в четыре часа утра началось четвертое бомбардирование Севастополя, которое стало одним из самых разрушительных. Автор отмечает использование противником различных способов бомбардирования, анализируя их особенности. Неприятель стрелял преимущественно залпами, сосредоточившись на левой стороне оборонительной линии; не только с земляных батарей, но и с кораблей, задействованных примерно с полуночи; периодически приближалась неприятельская плавучая батарея, едва возвышающаяся над водой и потому почти незаметная в темноте, которая давала залп ракетами и отходила. На Корабельной не было места, куда бы не падали снаряды, но армейская жизнь шла своим чередом, лишь жители покинули улицы, да чаще обыкновенного появлялись «кровавые носилки с печальною ношею».
Рисуя общий план, Алабин создает величественную картину Малахова кургана:
«Как некий великан, одетый страшною бронею батарей, он гордо встряхивает могучею главой, убранной густыми кудрями дымных облаков. Будто шлемом, прикрытый белыми остатками знаменитой круглой башни, он с грозным спокойствием посылает перуны во все стороны…» [16].
И далее общая картина начинает наполняться частностями, рассказчик наводит «объектив», и в «фокусе» появляются сначала безымянные герои: батарейный командир, «стоящий бестрепетно в урагане смерти и обдуманно поражающий врагов, тогда как десятки его товарищей и подчиненных падают вокруг него под губительной косою, обливая его своей кровью, немедленно заменяемые другими, готовыми испытать ту же участь!» [16]; солдат Охотского полка, молившийся в маленькой землянке и убитый во время молитвы разрывом бомбы. Затем являются герои с именами: капитан 1-го ранга Юрковский, начальник четвертого отделения оборонительной линии, смертельно раненный осколками бомбы в руку, в ногу и в бок; рядовые Семен Копальский и Григорий Ткаченко, прикрывающие собой от осколков командующего 8-й пехотной дивизии генерал-адъютанта князя Урусова, который не успел воспрепятствовать порыву молодцов; рядовой Трофим Белоусов, не растерявшийся в момент опасности и столкнувший по скату горы ружейным прикладом трехпудовую бомбу, упавшую на пороге порохового погреба на третьем бастионе.
За бомбардировкой следовал штурм. По словам автора, он начался в два часа и 50 минут утра; неприятель бросился на 1-й и 2-й номера. Рисуется общий план:
«Батальный огонь разлился по всему пространству до 3-го бастиона. Малахов курган стоит будто опоясанный двумя пламенными лентами; огненная река льется по всему протяжению оборонительной стенки; наш ружейный огонь усиливается ежеминутно, не прерываясь ни на мгновение. Значит, наши резервы подходят вовремя…»; «огромные массы неприятеля рассыпным строем близятся к нашим батареям… Вот они уже у волчьих ям, что перед 2-м номером, вот лезут во рвы первого бастиона Малахова кургана, вот близятся к 3-му бастиону…»; «англичане были не так упорны и во время этой повторенной атаки французов уже отхлынули совершенно от третьего бастиона и Пересыпки» [17].
Затем опять работает «зум», при приближении читатель видит «сумятицу рукопашного боя», в которой различима фигура красавца-француза, вскочившего на крону бруствера, но поваленного пулей и штыком, опрокинутых вслед за ним неприятелей, в сторону которых по команде майора Степанова «Камнями их, ребята!» несется град больших камней из оборонительной стенки.
На общих картинах сражения барельефами проявляются образы его участников. Скажем, генерала Будищева, который бросается на третий бастион, чтобы оттуда дать направление своим мортирам; на опасном месте оценивает сложившуюся ситуацию, дает распоряжение своему командору, а в следующее мгновение падает, сраженный штуцерной пулей.
Бой «разделился на сотню отдельных картин, на сотню разнородных эпизодов» [17], – как будто описывает свой метод Алабин. Один из ключевых моментов сражения – отбитие батареи Жерве – описывается через отдельные эпизоды, воссоздающие действия храбрецов, которых читатель не только «видит», но и «слышит», в частности, первого вбежавшего на батарею рядового Севского пехотного полка Ищука; предотвратившего взрыв порохового погреба рядового первой гренадерской роты Якутского пехотного полка Дорофея Музиченко. В целом во фрагменте, описывающем штурм, фигурирует больше десятка поименованных участников, многих из которых читатель «слышит» по их возгласам, репликам, брошенным друг длругу.
Алабин повествует и о том, что следует за штурмом 6 июня, потому что армейская жизнь продолжается: о благодарственном молебне, причем читатель знакомится с полным текстом речи его отслужившего старшего священника Камчатского полка Отца Евгения Федюшина, о перемирии.
Во фрагменте, рисующем «послесловие» битвы, представлены особенности солдат разных национальностей: русские быстро забывают о гордости победителей, проникаясь состраданием к побежденным. Штурм завершился, но огонь еще продолжался, так что забрать раненых было трудно. Русские солдаты позволяли раненым уползать, жестами давая им понять, что не будут стрелять; иногрда сами подползали к раненым врагам, чтобы дать напиться. В то же время, сидевшие в траншеях англичане, открывали в аналогичных случаях стрельбу, чем вызывали проклятия своих же соратников. Французы после неудачного штурма оказались обескуражены, утратили твердость духа (в отличие от русских солдат, которые не позволяют себе впадать в уныние даже в самых тяжелых обстоятельствах). Самонадеянность противника Алабин иллюстрирует двумя курьезными случаями: раненый французский офицеро не желал принимать медицинскую помощь, поскольку был уверен, что в течение получаса весь Севастополь будет в руках союзников; неприятельский капрал преспокойно ждал своих у церкви Белостокского полка в уверенности, что Севастополь падет через четверть часа.
Большой интерес представляет также очерк, опубликованный в двух номерах «Северной пчелы» за 1855 г. (№№ 128, 129), рассказывающий о военной тактике севастопольской обороны и об участии в борьбе горожан. Повествование здесь не «привязано» к какому-либо отдельному событию обороны, как это свойственно дневнику, а создает панораму, «собранную» из разновременных эпизодов.
Алабин сообщает, что борьба с врагом ведется на воде, на земле, под землей и в воздухе. Хотя после затопления судов наши корабли из бухты не выходят, они стоят в боевой линии всегда готовые к действию, бортами к морю с открытыми люками:
«В первой линии (насупротив Павловского форта) стоят корабли “Париж” (у мыса), “Великий князь Константин” (в середине) и “Храбрый” (у Северной), готовые к бою по первому сигналу. Адмиральский флаг поднят на корабле “Великий князь Константин”. Пароходы беспрестанно шмыгают по бухте» [12].
О «подземной» войне автору по понятным ссображениям секретности слишком распространяться нельзя, но все же он упоминает, что все подкопы союзников Тотлебен умело обращает против них самих. Подробнее говорится о наземных работах, благодаря которым Севастополь превратился в сильную крепость. Город обвит грозною цепью батарей и бастионов, все пространство перед оборонительной линией усеяно сотнями ложементов, завалов, небольших окопов, связанных сетью траншей. Все это таким образом составляет неприступное целое, которое «еще более сплачивается глубоким рвом и высоким валом, соединяющим бастионы» [12]. Несколько домов приведены в оборонительное положение, в окнах казарм размещены орудия, на многих улицах устроены баррикады. В это время неприятельские батареи нагромождаются от моря до Черной речки в две и более линий. Расстояние, разделяющее противников, составляет всего 200 шагов, наши стреляют из ложементов, неприятель – из траншей.
Таким образом, Алабин воссоздает максимально точную, представимую зримо картину города на осадном положении. При этом он зачастую старается разъяснить суть военной терминологии. Так, например, в записках он объясняет, что такое ложемент. В газетной версии это разъяснение отсутствует, поэтому, вероятнее всего, является более поздней вставкой. В то же время в газетной корреспонденции рассказывается, что собой представляет блиндаж. Описав это сооружение, офицер не может не упомянуть о сигнальщиках – «живой и единственной защите». Он рассказывает читателю об обязанностях службы сигнальщиков, приводя ряд примеров их бесстрашия. Рядовой Селенгинского пехотного полка Петр Петров засыпал землей и притоптал упавшую на Камчатский люнет бомбу; рядовой этого же полка Макар Сидоренко под неприятельским огнем погнался за бандскутелем и затушил его мешком земли. В день первого бомбардирования матрос Трофим Александров бросился к бомбе, упавшей рядом с толпой солдат:
«– Бережись, бережись, – закричали ему товарищи: курица, курица!.. Но Александров знал, что делал: схватил грязи и залепил горящую трубку. Она погасла… Матрос перекрестился, и, толкнув ногою бомбу, крикнул товарищам: – Эх вы, солдатами зоветесь, а курицы боитесь!..» [13].
Многообразнее всего, по словам офицера, воздушная война: звуки ружейной стрельбы не прекращаются ни на минуту, они дополняются разнообразными звуками канонады. Разрывает воздух ракета, свищет ядро, клохчет бомба, ревет бомбовое орудие парохода – автор стремится создать у читателя представление о том военном «концерте», который несмолкаемо звучит в городе и к которому все настолько привыкли, что не обращают на него внимание. Причем привыкли не только воины, но и горожане.
Алабин рассказывает об участии женщин и детей в осадной жизни. Женщины проявляют мужество: «видя твердость женщин в самые опасные мгновения, укрепляется даже слабейший духом» [12]. Женщины торгуют даже на самом Малаховом кургане; во время бомбардирования беспрестанно носят воду на бастионы; помогают на перевозочных пунктах.
Рассказывая о женщинах Севастополя, Алабин, согласно своей манере, не ограничивается созданием общей картины, и приводит частные – показательные – случаи. Так, после дела с 10 на 11 марта 1855 г. было много раненых, на перевязочный пункт пришла старушка и две женщины, которые предложили забрать с дюжину раненых, чтобы оказывать им помощь в своем доме. И так поступают многие – констатирует рассказчик. После дела 24 октября на Инкерманских высотах матроска явилась на дорогу, близ которой находилось много легкораненых: не желая идти в госпиталь, они отдыхали, измученные ранами, голодом и усталостью. Женщина принесла с собой готовое тесто в горшке, масло, сковородку и дрова и стала прямо там жарить оладьи, бесплатно угощая солдат.
Приноровились к войне и дети: мальчишки беспрестанно бегают на батарею к своим отцам, принося им необходимое; работают веслом; собирают неприятельские снаряды. И это – под беспрестанным огнем. Очеркист приводит случай с мальчиком, собравшим за день тридцать шестнадцатикилограммовых ядер. Играют дети в войну, особенно любят изображать Синопское сражение, а также Инкерманское. Иногда ребята заигрываются до того, что в дело приходится вмешиваться полицейским. Так, однажды участникам «Синопского сражения», заигравшихся до драки, решено было всыпать розог.
«Приговор немедленно был исполнен над “турками”. Дошла очередь до старшей девочки лет восьми.
– Помилуйте, ваше благородие, – просила девочка, я ведь не дралась…
– Врешь, все вы там были!
– Нет, помилуйте, не были! Всех спросите, так скажут, что не были… Я была Корнилов, мы с пароходами оставались!» [13].
У этих ребят, некоторые из которых изувеченны ядрами, на костылях, самое оскорбительное ругательство – трус. Всматриваясь в жизнь севастопольских детей, Алабин восклицает:
«Севастополь сделался рассадником героев. Все, что живет в его окопах, воспиталось войной, повито опасностью, вскормлено нуждой, взлелеяно лишениями» [12].
Важная информация о севастопольском противостоянии содержится и в газетных публикациях (1855 г.; №№ 218, 219), повествующих о сооружении Селенгинского редута и последовавшей атаке неприятеля, попытавшегося отнять и уничтожить начатое укрепление. Здесь обращает внимание, каким Алабин представляет своего читателя: он адресует очерк своему современнику, зная, что каждый россиянин, который так или иначе интересуется текущими событиями, имеет перед глазами топографические карты и планы Севастополя и по ним составил себе представление о характере севастопольской местности и расположении войск. В очерках, посвященных Селенгинскому редуту, автор раскрывает особенности бастионной, блиндажной и траншейной жизни, которую подробно живописует в своих записках.
Читатель получает наглядное представление о севастопольском противостоянии: о тяжелой, изнурительной ночной работе по сооружению укреплений под неприятельским огнем, о беспрестанном, почти сизифовом труде по исправлению дневных разрушений и по возрождению практически стертых неприятельским огнем валов и насыпей; об опасных ночных вылазках для замедления или разрушения неприятельских земляных работ, о постоянных атаках на наши укрепления:
«Днем допекает бомбардировка да таскание раненых, а то можно было отдохнуть. Но зато ночью!.. Едва настанет вечер, и потянутся по всем направлениям вереницы людей: столько-то в секрет, столько-то в цепь, в прикрытие; главный расход на работы, на эти страшные работы под штуцерным огнем, где бомбы и гранаты считаются почти пустяками, но где пули носятся, как комары на болоте» [1, с. 480].
Так, при сооружении редута «нашим предстояла египетская работа: редут воздвигался на каменистом грунте, едва покрытом тонким слоем земли. Почти вся работа проводилась кирками; искры летели от усиленных ударов о каменистый грунт, но, несмотря на то, надо было сделать несколько ударов киркою, чтобы отбить небольшой кусок камня» [14].
В течение суток, сообщает офицер, неприятель по каким-то причинам мало беспокоил огнем работающих, но потом решился на внезапную атаку сильным отрядом отборного войска, в составе которого, в том числе, были два батальона зуавов и под сотню охотников, вызванных из всей французской армии. Завязался бой, который очеркист описывает, используя смену планов. На общем плане французы устремляются на «свернувшихся в колонны» волынцев, несколько раз оказываются отбиты, перестраиваются, снова бьют и снова отступают; на среднем – штаб-офицер, командир охотников, бросается в редут, но оказывается поднят на штыки; за ним заскакивает молоденький офицер, который тут же получает удар киркой по голове, за ним – еще офицер, которому будто невидимая рука помогает взобраться на вал, но он тут же схвачен «за ворот», из рук его «вышиблена» сабля, и «молодца» тащат вглубь редута.
Крупный план здесь изображен новым способом: непосредственно в рассказах самих участников, воссоздающих эпизоды обшей атаки. Это дает эффект максимального погружения, когда читатель оказывается внутри события, на месте конкретного участника битвы, видя его глазами, действуя заодно с ним, эмоционально переживая вместе с героем. Такой эффект, в частности, дает рассказ сотника пешего черноморского казачьего батальона № 8 Даниленко:
«<…> А я все с этим вожусь… Приколоть-то, бачите, им нечем меня, один меня за горло держит, а я его одной рукой схватил за ружье, другой рукой другого за грудь, а прежде еще вышиб у него из рук ружье… Он рвется у меня к ружью своему, а я их обоих подтягиваю к шашке, зная, где они ее бросили; вот и возимся… Тут-то я вспомнил, что при мне кинжал. Я как брошу от себя того, которого за грудки держал, тот полетел, а я выдернул кинжал, да в брюхо тому, что меня за горло душил… он так и затрепетався!.. А тот другой бежал от меня и ружье забыл!» [15].
Алабин подчеркивает, что любит потолковать с солдатами после дела: их живые рассказы, в которых содержатся «весьма оригинальные взгляды», «преисполнены занимательности, потому что передаются самими героями рассказов, под влиянием свежего впечатления от едва замолкшего боя» [15]. Офицер записывает также беседы солдат друг другом. Так, например, воспроизводится разговор бывалого Михеича с небывашим в деле артельщиком о том, как еврей Мошка пожелал креститься после атаки. Эта история изображает человека, первый раз оказавшегося в бою, которому впервые приходится убивать. Преодоление подобного психологического барьера – общая тема в контексте проблематики человека с ружьем, и Алабин раскрывает ее в своих корреспонденциях.
Подобные живые свидетельства дополняются другими ценными источниками информации: неприятельскими письмами и откликами иностранной печати. Так, очеркисту попадает в руки письмо от матери погибшего французского офицера и черновой вариант ответа последнего. Алабин считает эти письма ценным материалом, который дает представление о состоянии – материальном и психологическом – неприятельской армии, а потому считает целесообразным его обнародование.
Мать в письме говорит о своей тревоге за сына, которую усиливает недостаток информации с фронта: о событиях старушка узнает из газет, которые лишь иногда говорят правду об истинном положении союзнической армии, и от окружающих, чьи дети тоже находятся на войне. По словам матери, газеты уверяют в отсутствии нужды в продовольствии и теплой одежде; военные обеспечены фуфайками, теплым нижним бельем, шерстяными носками и даже сабо. Однако сын отвечает на это, что из теплых вещей они получили лишь пару чулок (Алабин дополняет, что, по рассказам французов, сабо они сожгли в кострах, чтобы согреваться).
Позже офицер познакомится с иностранными газетами, напечатавшими реляции о деле 11–12 февраля 1855 г. (Алабин сопроводит ими публикацию). В донесении вице-адмирала Брюа и письме лорда Раглана дело описано как полностью выигранное французами, которые якобы с необыкновенной быстротой отняли редут и совершенно разрушили его. Алабин отмечает, что отступать от истины (в «Северной пчеле» – «бессовестно лгать») – явление обыкновенное в европейских газетах, которое ныне сделалось нормой и для составителей реляций.
Еще две из газетных публикаций посвящены вылазкам, осуществленным в ночь с 1 января 1855 г. (№ 81 от 1855 г.) и в ночь на 30 апреля 1855 г. (№ 1 от 1856 г.).
Первая корреспонденция представляет собой небольшой рассказ и примечательна тем, что отсылает к публикации «Одесского вестника» за 4 января 1855 г., утверждавшего, что вылазка осуществлялась моряками. Алабин поправляет автора (г. Славони), отмечая, что операция проведена преимущественно силами пехоты, и указывая состав участвовавших войск: левая колонна из трехсот охотников под командой лейтенанта Астапова и левая колонна из двухсот охотников под предводительством лейтенанта Бирюлева с резервами и прикрытием.
Вторая корреспонденция содержит много важных подробностей вылазки в ночь на 30 апреля на Зеленую гору. Сообщается, что противник до этого сильно тревожил нас фальшивыми тревогами, и, чтобы «проучить» его, организована была вылазка «посильнее предыдущих»; рассказывается о хитрости неприятеля – играть в разгар боя наш сигнал отступления и тем самым дезориентировать наши войска; о трудностях весенней распутицы. В частности, говорится, что нашим пришлось ползти более километра против ветра, по глубокой грязи до траншей англичан, которые не оказывали серьезного сопротивления:
«По грязи он уйти не может, – рассказывали мне солдаты, – да и этот не то, что француз прыткий; у этого башмаки станут сваливаться, он запутается, присядет, ружье тебе свое в руки сует, бормочет что-то и дрожит, как лист» [18].
Далее в корреспонденции сообщается о панихиде, отслуженной по убитым за период осады охотцам, о благодарственном молебне и обедне, о празднике в честь юбилея шестимесячного пребывания Охотского полка в Севастополе.
Рассказывая о панихиде, Алабин уточняет, что в числе убитых священник упоминал одного только боярина Николая – Николая Александровича Кондратьева. Очеркист собрал сведения о последних днях и минутах Кондратьева, считая их замечательными. Автор рассказывает о предчувствии, которые было у Кондратьева перед вылазкой на 20 декабря 1854 г., в которой он погиб; об обстоятельствах героической гибели. Юноша-герой в пылу рукопашного боя увидел, что двое зуавов набросились на солдата, который повалил одного, но оказался под ударом штыка другого:
«Тигром бросился Кондратьев на зуава и шашкой разрубил ему голову; тот повалился, но, падая, чем-то зацепил взведенный курок своего ружья, выстрел пришелся в грудь Кондратьеву» [18].
Включая в свои записки рассказ о празднике, Алабин поясняет, что значит шестимесячный срок пребывания в осажденном городе:
«Не трудно произнести эту фразу вам, господа, не испытавшим ни одного дня этой жизни в грязи и смраде траншей и блиндажей, беспрестанно вынося атаку миллионов самых несносных насекомых; этой жизни, так сказать под косою смерти, над вами парящей в образе сотен тысяч разнообразных снарядов, ежеминутно видя перед собой ее осклабленный лик и вокруг себя разрушение и гибель» [18].
ВЫВОДЫ
Петр Алабин прошел всю «севастопольскую страду». В составе 11-й пехотной дивизии он прибыл с Дунайского театра военных действий в Крым спустя месяц после начала осады Севастополя, в октябре 1854 г., и покинул полуостров после заключения Парижского мира в апреле 1856 г., проведя в осажденном городе полтора года. События оборны города Алабин описывал в походном дневнике, который вел на протяжении всей кампании. Часть дневниковых записей послужила основой для корреспонденций, которые офицер направлял в газету «Северная пчела». Эти материалы публиковались газетой на протяжении 1855 г. – января 1856 г.
Походный дневник Алабина создавался как текст, ориентированный на широкого читателя. Это подтверждается и тем, что фрагменты дневника превращались автором в корреспонденции для «Северной пчелы», и тем, что порою, напротив, очерки, созданные специально для публикации в прессе и отступающие от формата поденных записей, затем присоединялись к дневниковому тексту. Таков, в частности, объемный очерк, опубликованный в «Северной пчеле» за 1855 г., воссоздающий панораму жизни осажденного города и по формально-содержательным признакам близкий к рассказу Л. Н. Толстого «Севастополь в декабре месяце». То есть Алабин изначально воспринимал свое творчество как синитез военной хроники и военного репортажа.
Алабин был штабным офицером и в силу обязанностей собирал и обобщал сведения о своей дивизии, боевых операциях, данные о персональном участии в них солдат и офицеров. Наличие широкой и, одновременно, подробной информации определяло особенность алабинских очерков, построенных на умелом сочетании изобразительных планов. Монтаж – один из основных признаков кинематографичности – специфический признак алабинских текстов, которые выстроены как «покадровое видение» [2]. Создавая военные панорамы, автор варьирует ракурсы и «крупности», придает письму свойства аудиовизуального ряда, наполняя текст выразительными подробностями, позволяющими читателю не просто следить за ходом событий, но и «видеть» отдельные «картины» боя, лица участников, «слышать» звуки сражения. Широкое использование крупных планов, где изображаются отдельные воины с присущими им индивидуальными чертами (портретные детали, речевые особенности), позволяет передать моральное состояние войск, специфику национальных характеров, осознать мотивацию участников событий.
Обращение к севастопольским текстам Алабина расширяет представление о журналистских поисках периода Крымской кампании. Исследователи уже определяли изобразительную специфику, присущую другим военным корреспонденам того периода: «документально-субъективированный историзм сочинений Е. П. Ковалевского, поэтика сиюминутного действия “Ночной вылазки…” А. Д. Столыпина, жанровая мозаичность корреспонденций Н. И. Берга, стенограммная точность “бесед” с простыми солдатами Н. П. Сокальского, художественные обобщения в “Севастопольских рассказах” Л. Н. Толстого» [7, с. 49]. Думается, этот ряд характеристик следует продолжить «кинематографичностью» очерков П. В. Алабина.
References
- Alabin P. V. Chety`re voiny`. Pokhodny`e zapiski v 1849, 1853, 1854–1856, 1877–1877 godakh. Vol. 3. Zashchita Sevastopolya. [Four wars. Field notes in 1849, 1853, 1854–1856, 1877–1877. Vol. 3. Defense of Sevastopol]. Moscow, 1892. 810 p.
- Aseeva O. A. Fenomen literaturnoi kinematografichnosti v sovremennom literaturnom processe [The phenomenon of literary cinematography in the modern literary process]. Vestnik Ulyanovskogo gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta, 2010, no 3 (51), pp. 8–11.
- Boyarkina N.V. Osobennosti osveshheniya gazetoi «Severnaya pchela» Vengerskogo pokhoda russkoi armii 1849 goda [Features of the newspaper «Severnaya Pchela» coverage of the Hungarian campaign of the Russian army in 1849]. MediaVector, 2025, Issue 14, pp. 13–20.
- Zharavin V. S. Pochetny`i grazhdanin Vyatki – Pyotr Vladimirovich Alabin [Honorary citizen of Vyatka – Pеter Vladimirovich Alabin]. Central State Archive of the Kirov region (website). Avialable from: https://cgako.ru/static/page_files/9ba7e7c66a7511eaa0225254007c38a0.pdf (accessed 25 July 2025).
- Luchinskii Yu. V. Kritika evropejskoi pressy` na stranitsakh «Severnoi pchely`» v period Kry`mskoi voiny [Criticism of the European press on the pages of the Northern Bee during the Crimean War]. Media v sovremennom mire. 61-e Peterburgskie chteniya: sb. mater. Mezhdunar. nauchn. foruma. In 2 vols. Vol. 2. Saint-Petersburg, Mediapapir Publ., 2022, pp. 30–32.
- Luchinskii Yu. V. Osveshchenie nachala Kry`mskoi voiny` na stranitsakh «Severnoi pchely`» [Coverage of the outbreak of the Crimean War on the pages of the «Severnaya pchela»]. Chernomorsko-sredizemnomorskii region v sisteme nacional`noi bezopasnosti Rossii: k 80-letiyu Pobedy` v Velikoi Otechestvennoi voine: Materialy` Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferencii. Krasnodar: KGU Publ., 2025, pp. 65–68.
- Orehov V. V. Baron de Bazankur: literator, istorik, voennyj korrespondent. Chast’ I. Yunost` i pervy`i roman [Baron de Bazancourt: writer, historian, war correspondent. Part I. Youth and the first novel]. Uchenye zapiski KFU. Filologicheskie nauki, 2023, vol. 9 (75), no. 1, pp.48–69.
- Orehova L. A., Orehov V. V., Pervyh D. K., Orehov D. V. Krymskaja Iliada. Krymskaja (Vostochnaja) vojna 1853–1856 godov glazami sovremennikov: literatura, arhivy, pressa [Crimean Iliad. The Crimean (Eastern) War of 1853–1856 through the Eyes of Contemporaries: Literature, Archives, Press]. Simferopol, SGT Publ., 2010. 480 p.
- Patrikeeva M. V. Kry`mskaya voina 1853–1856 gg. v literaturnoi pamyati sovremennikov: … cand. philol. nauk [The Crimean War of 1853–1856 in the literary memory of contemporaries: Thesis]. Moscow, 2022. 235 p.
- Pervyh D. K. Ocherki N. P. Sokal’skogo kak jetap stanovlenija otechestvennoj voennoj zhurnalistiki [Essays by N. P. Sokalsky as a stage in the formation of domestic military journalism]. Uchenye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Filologicheskie nauki, 2018, vol. 4 (70), no 4, pp. 197–215.
- Pervyh D. K., Pervyh V. V. Voennye korrespondencii N. V. Berga v zhurnale «Moskvitjanin» (1855 g.) [Military correspondence by N. V. Berg in the journal “Moskvityanin” (1855)]. Uchenye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta im. V. Vernadskogo. Filologicheskie nauki, 2015, vol. 1 (67), no. 1, pp. 95–103.
- Severnaya pchela, 1855, no. 221 (14 October).
- Severnaya pchela, 1855, no. 218 (6 October).
- Severnaya pchela, 1856, no. 223 (10 October).
- Severnaya pchela, 1855, no. 262 (28 November).
- Severnaya pchela, 1855, no. 128 (13 June).
- Severnaya pchela, 1855, no. 129 (14 June).
- Severnaya pchela, 1855, no. 213 (7 October).
- Severnaya pchela, 1856, no. 1 (2 January).
- Tarle E. V. Kry`mskaya voina: v 2-kh vol. [The Crimean War: in 2 vol.]. Vol. 1. Moscow–Leningrad., 1941.723 p. Avialable from: http://militera.lib.ru/h/tarle3/index.html (accessed 25 July 2025).
- Sharabarov P. N. Initsiativa P. V. Alabina po sozdaniyu Sevastopol`skogo muzeya v kontekste obshchestvennogo pod«ema e`pokhi Velikikh reform Aleksandra II [Alabin’s initiative to create the Sevastopol Museum in the context of the social upsurge of the era of the Great Reforms of Alexander II]. Dvenadtsaty`e Salty`kovskie chteniya: materialy` Vseros. nauch.-prakt. konf. Kirov, 2016, pp. 66–71.
- Cheryachukin M. S. Glavnoe upravlenie tsenzury` kak instrument formirovaniya ofitsial`nogo narrativa v gody` Kry`mskoi voiny` 1853–1856 gg. [The Main Directorate of Censorship as a tool for forming an official narrative during the Crimean War of 1853-1856]. Peterburgskii istoricheskii zhurnal, 2024, no 2 (42), pp. 47–60.
- ChurkinaV. «Severnaya pchela» o soby`tiyakh na Balkanakh nakanune i vo vremya Kry`mskoi voiny` [«Severnaya pchela» about the events in the Balkans on the eve and during the Crimean War]. Slavyane i Rossiya: slavvanskie i balkanskie narody` v periodicheskoi pechati. K 90-letiyu so dnya rozhdeniya A. A. Ulunyana. Moscow, 2014, pp. 91–114.
[1] За участие в этих сражениях Петр Алабин был награжден, соответственно: орденом Св. Анны III степени с мечами и бантами; званием капитана; орденом Св. Станислава II степени с мечами.
[2] Ныне Военно-исторический музей Черноморского флота Министерства обороны РФ.