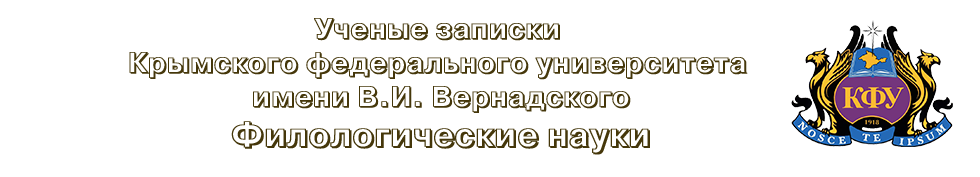THE CONCEPT OF «GENETIC BONFIRE» IN THE POETRY OF THE NORTHIC PEOPLES
JOURNAL: «Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philological sciences», Volume 11 (77), № 3, 2025
Publication text (PDF): Download
UDK: 821.131.1.0
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:
Juleva A. S., A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences (IMLI RAS), Moscow, Russia
TYPE: Article
DOI: https://10.29039/2413-1679-2025-11-3-35-50
PAGES: from 35 to 50
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: Northern peoples, poetry, ancestral fire, fire, concept, ancestors, worldview.
ABSTRACT (ENGLISH): The article discusses the process of formation and development of the literature of the peoples of the North, in particular, the formation, role, and significance of the artistic concept in the historical and cultural context. The cognitive and artistic concept of «ancestor’s fire» is chosen as the object of study. It is noted that the human spirit’s desire for the transcendent, the acquisition of moral values, and the preservation of traditions, rituals, and ceremonies are reflected in the presence of this concept in oral folk art. Later, it transformed into a supertextual structure in literature. In works created by authors who have retained a mythological consciousness to varying degrees, they not only convey information across time, preserving it, but also give strength to the spirit and body, activating the hidden potential of the individual. The study identified a range of works that feature the artistic concept of «ancestor’s fire» both as an independent concept and as a model for conceptualizing fire and ancestral memory.
ВВЕДЕНИЕ
Процесс зарождения и становления литературы народов Севера в ХХ в. – удивительный феномен эволюционного развития, возникший в условиях смены эпох. Литература родилась почти одновременно с разработкой алфавитов и появлением письменности на родных языках, внедрением образования на родном и русском языках, транскультурации.
Основная цель нашей работы – проследить, как познавательный концепт «родовой костер», трансформируясь и сохраняя мифопоэтические основы устного творчества, обретает художественную концептуальность в новописьменной литературе народов Севера.
Заметно внимание историков, этнографов, фольклористов, в том числе из числа представителей народов Севера, к родовому костру как субъекту бытования и культуры народов Севера. Известны работы историков и этнологов И. С. Вдовина, В. Г. Богораз-Тана, ненецких авторов Е. Пушкаревой, А. Сязи и др. В работах литературоведов мифологема «родовой костер» рассматривалась локально, в основном с уточнением ее связи с устным народным творчеством северных этносов. Возвращением себе истории, сохранением аутентичного устного творчества называет северовед Ю. Г. Хазанкович в монографии «Фольклорно-эпические традиции в прозе малочисленных народов Севера» обращение писателей к фольклору [22]. Исследуя доминантные особенности функционирования фольклорно-эпической традиции, она учитывала отражения «первичной» формы мировоззрения, специфического художественного мышления писателей-северян, анализировала трансформацию и адаптацию фольклорно-жанровых структур в художественном произведении и определяла в текстах «функции фольклорно-эпической «цитации». Хазанкович, подчеркнув важность учета стадиального развития общественного сознания малочисленных народов Севера, отмеченного ранее А. В. Пошатаевой в книге «Литературы народов Севера», отметила, что присутствующие «ранние формы осмысления реальности, как фольклор и мифология, в литературах малочисленных народов Севера служат своего рода культурным кодом, с которым до сих пор не утрачена связь. Устно-поэтическое наследие не является у северян архаикой. Оно сохранило, видоизменившись, свое функциональное содержание» [22, с. 3].
Лингвокультурологи и лингвисты, рассматривая концепт «огонь», отмечают, что костер и огонь создают равнозначно особую психосоциальную среду, означают костер моделью концептуализации огня (Трофимова А. В., Котова Ю. А. и др.). Характеризуя художественность и этноспецифику концепта «родовой костер», нами было учтено мнение А. Аскольдова и Д. Лихачева о том, что художественный концепт как «сгусток смыслов» (Аскольдов) и основной ингредиент концептосферы произведения (Лихачев) тесно связан с познавательным концептом и художественным образом. Нами учитывалось также сделанное позднее уточнение лингвокультуролога Ю. С. Степанова, что понятие «определяется», концепт «переживается». По мысли Ю. С. Степанова, концепт включает в себя не только логические признаки, но и яркие, характерно отличные детали, компоненты научных, психологических, эмоциональных и бытовых явлений и ситуаций [17, с. 19‒20, 64].
Однако остаются без ответа многие вопросы трансформации познавательного концепта в художественный. Изучение репрезентации и рецепции художественного концепта является важным и необходимым как для осознания идейного смысла художественного текста, так и для понимания менталитета литературной личности, ее творческой манеры.
Для изучения концепта «родовой костер» нами был привлечен широкий круг произведений поэзии разных народов Севера, что позволило проявить актуальность этого концепта для менталитета северян. Отмечено наличие значительного количества поэтических произведений с говорящим названием: «Родовой костер» и «Сон у костра» ненецкого поэта Леонида Лапцуя, «Костры» и «Дым костра» хантыйского поэта Романа Ругина, «Костерок» чукотской поэтессы Клавдии Геутваль, «Юкагирские костры» Улуро Адо, «Дымок» эвенкийского поэта Григория Чинкова и мн. др. Определение концепта автором в названии произведения Д. С. Лихачев считал значимым как для раскрытия содержания, так и для формирования концептосферы в комплекте с другими концептами. В ходе исследования раскрыто, как, наполняясь художественными концептами, концептосфера становится единицей индивидуально-авторского творческого процесса, отражением авторского самосознания.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
«Костер» и «огонь» как факторы выживания и бытования человека, как способ победы над хаосом уже в мифах обрели черты художественности. Позднее в фольклоре и эпосе они продолжили развитие, образно представляя космологические размышления, стремление познать окружающий мир. Письменная литература активизировала богатство метафоризации родового костра и огня, родовой памяти, раскрывая их смысловую значимость.
И хотя в настоящее время концепт «родовой костер» несколько потерял активность своего развития в литературе, его роль не снижается для постижения его и сопряженного с ним принципа культуры ‒ огня для расширения знаний и раскрытия символики. Не менее существенной для изучения на литературном материале эволюции, истоков развития человека, этномировидения остается и константа «род», «родовые отношения», «родовая память». Согласно новому энциклопедическому словарю (М., 2008), родовые отношения – это отношения, складывающиеся между представителями рода (внутриродовые) и представителями разных родов (межродовые).
Родовой костер, сопряженный с родовым огнем и родовой памятью, оставался «живым» для народов Севера, поскольку активно бытовал в верованиях и традициях, обрядах и ритуалах до периода социальных перемен, на бессознательном уровне присутствует, проявляясь в культуре, литературе и в наши дни. В первой половине ХХ в. существовали у этих народов, в своеобычном сочетании общественные отношения разного уровня: семья, род, племя, фратрия и народ. Об этом писал ряд исследователей-североведов (Вдовин И. С., Меновщиков Г. А., Головнев А. В. и др.).
Сохранение и развитие первообразов в литературе – значимое явление для культуры всего человечества «Любое отношение к архетипу, переживаемое или просто именуемое, “задевает” нас; оно действенно потому, что пробуждает в нас голос более громкий, чем наш собственный. Говорящий прообразами говорит как бы тысячью голосов <…>, он возвышает личную судьбу до судьбы человечества и таким путем высвобождает в нас все те спасительные силы, что извечно помогали человечеству избавляться от любых опасностей и превозмогать даже самую долгую ночь» [26, с. 230].
Концепт-конструкт «родовой костер» обладает магией, наполненной тайнами и огромной силой благодаря огню, о чем свидетельствует как устное творчество народов Севера, так и письменная литература. Известно, что огонь как природный первоэлемент почитается во всем мире, нередко воспринимается как божественное проявление. Многочисленны и этнически разноообразны образцы поклонения как родовому костру, так и родовому огню у народов Севера. В зарождавшейся литературе они постепенно обретали различные формы отражения, обусловленные ее постепенно закреплявшимися функциями. Обращение к целому ряду литературных текстов, написанных поэтами и прозаиками на родных языках (и частью существующих в автопереводах), а также на русском языке, позволило проявить роль концепта «родовой костер» в реализации названных функций.
Вступая на новый, необычный для своего этноса путь ‒ создание письменной поэзии, авторы-издатели литературы народов Севера обращались за поддержкой и вдохновением нередко к родовой памяти, традиционно активизирующему ее родовому костру. Так, хантыйский поэт Микуль Шульгин в стихотворении «Костер в тайге» воспевает достоинства костра как наполненной жизненной энергии сущности, которая способна не только реально спасти человека в тайге, согреть его и помочь приготовить пищу, обращается к нему за творческой поддержкой. Он уверен, что родовой костер, обладая метафизическим языком, может поддержать беседу, спеть с ним песню. Представлен костер в облике волшебного, имеющего крылья летающего существа: «Затяну-ка я песню / Подпевай, костер! / Ты не зря над лесом / крылья распростер» [14, c. 104].
Мотив «внутренней инженерии», тонкой связи вдохновения поэта с природой развивается и в стихотворении «Костры» (пер. Л. Сорокина) другого хантыйского поэта – Романа Ругина. Одновременно в тексте стихотворения «Костры» осуществляется связь с реципиентом-читателем. Высоко оценивая тепло костров для охотников как радость для их души, поэт, обращаясь к реципиенту-читателю, советует бережно обращаться с костром, позиционируя традиции, заложенные в детстве. По его мнению, равнодушие и недоброе отношение по отношению к незатухающему пламени, прячущемуся в золе, способны задушить игру огня. Антропологизируя мироздание, наделяя костер и огонь тонкой натурой, владеющий ею, автор ассоциирует их с поэтами, несущими миру гармонию, добро и свет: «Сердца поэтов ‒ как костры: / Видней тропа в их добром свете, / От их тревожащей жары / Теплей становится на свете. / Они ведут свой разговор / С седой Полярною звездою, / И с белизною дальних гор / И с многодумною тайгою». Пробуждающий воображение родовой костер становится символом света, обретает духовную значимость: «Когда костры заснут в золе, / И тьма сгустится над лесами, / Сердца поэтов на земле / Горят высокими кострами» [18. с. 81‒82].
Родовая память являет собой информацию предков об истоках, об их ценностях и традициях. Как бы «просыпаясь» у родового костра, она может подтолкнуть к той или иной деятельности. Но, хотя родовой костер генетически и является скоплением всех родов, всех поколений, всех колен, которые жили когда-то, у каждого человека постепенно формируется свой внутренний родовой костер. Родовой костер с его родовым огнем влияли на сохранение родовой памяти, разжигали внутренний творческий костер, активизируя зарождение поэтических идей, образов. Этот процесс требует своего изучения с привлечением других наук, в частности психологии и лингвистики. Как огонь приводит к состоянию транса, настраивая на общение с предками? Актуальным для нас становится изменение фокусирования внимания под воздействием огня. Как оно концентрируется на внутренних психических процессах-мыслях, образах, воспоминаниях, представлениях? Исследователи транса В. Ю. Завьялов, В. Д. Бехтерева, А. О. Прохоров относят его к измененному состоянию сознания – ИСС. Предположительно во время транса либо происходит расфокусирование внимания, либо оно становится селективным, выборочным. При проводимых испытаниях ощущается быстрый, вибрационный гул движущейся вокруг энергии, раскачивание или вращение, потеря чувства направления и тяжести, ощущение у человека, что он поднимается из своего тела. Наполнение души и духа новыми ощущения, возможно, и способствует возникновению сакральной связи с родовой памятью [8].
«Сородичи, братья по родовому огню», ‒ обращается эвенкийский поэт Алитет Немтушкин к предкам за советом и поддержкой своих мыслей в стихотворении «Сородичам» (пер. А Федоровой). Размышляя о призрачном счастье, он ведет диалог с предками, приглашая одновременно к нему и современников: «У жарких костров не о счастье ли деды мечтали, / Когда по тайге дни и ночи они кочевали / И метили в зверя, а в счастье пытались попасть». Предлагает поэт быть более внимательным к духовному наследию предков, к их опыту и извечным мечтам. Эвенкийский поэт и прозаик Алитет Немтушкин, рожденный в семье охотника древнего рода Хэйкогир, в своих произведениях нередко подчеркивал значимость родового костра и огня для таежных жителей. Немтушкин называл себя, что означено и в стихах, тем самым «диким тунгусом», о котором писал А. Пушкин в «Памятнике». Пророчество великого русского поэта сбылось и стало даже развитием литературы эвенков (тунгусов). Немтушкин ассоциирует родовой костер с творческим процессом, приглашая к созданному из слов и размышлений своему творческому костру. Слова героя-автора в стихотворении «Мой аркан забыл оленьи рога…» звучат своеобразным покаянием за оставленное традиционное занятие таежного охотника и жизнь в городе в связи с победившим желанием «разводить костры на бумажном льду». Как бы в ответ на возможный упрек, принесенный ветром от покинутой им тайги, поэт обращается к народу, предкам и современникам «приходить» к его творческому костру. Убеждает их, что свои песни он сочиняет о них и для них, чтобы они «пронзали тьму» и «грели в стужу». Без их участия, их доброты, по его мнению, возможно угасание творческого костра: «А без вас мой костер потускнеет, умрет, / Темный пепел его заметут снега» [14, с. 130].
В стихах Немтушкина костер и огонь, как и в поэзии других северных авторов нередко становятся гештальтом целого спектра чувств. О связи огня с внутренним миром человека лингвист А. В. Трофимова писала, выделяя гештальт радости, например в романе В. Иванова «Голубые пески» [21].
Обращаясь к актуальной теме создания портрета своего народа, привлечения внимания к его проблемам, вписания в мировой процесс, в том числе литературный, использовал прием создания концептосферы с участием концепта «родовой костер» и юкагирский поэт, ученый, общественный деятель Улуро Адо ‒ Гавриил Николаевич Курилов. Поэт, разрабатывавший юкагирский алфавит, приглашал в стихотворении «Wадун лачил» (Юкагирский костёр), вошедшем в сборник «Юкагирские костры» и не раз издаваемом в периодической печати, читателей – жителей всей Земли познакомиться с его малочисленным и малоизвестным народом, создающим письменную литературу и поддержать огонек костра, «пожар сердец» (пер. Н. Слепаковой). Родовой костер с его многозначимостью для юкагиров стал героем ряда стихотворений Улуро Адо, среди них «Юкагирские огни», «Дым юкагира». Поэтизация костра и огня у поэта содержит ярко выраженную мифологическую основу. Поэт собирал и изучал фольклор своего народа, создал поэму «Идилвей» об юкагирском народном герое, о его редком таланте, мастерстве. Признание героя настоящим охотником было осуществлено во время совершения обряда инициации около родового костра. Идэлвэй ‒ герой давних времен, охотник за дикими оленями. Овладение мастерством настоящего ловца требовало как знания повадок оленей, так и умения быть манщиком, приманивать диких животных, обладать зоркостью в поиске оленя, скоростью бега и силой, чтобы догнать зверя и привести к другим охотникам. Все эти качества проверялись опытными охотниками во время инициации – самостоятельной добычи оленя. Автор подробно описывает, как Идилвей ловко справился с двухгодовалым оленем. И как добытчик, напившись свежей кровью, по обычаю принес жертвоприношение, брызгая кровью по сторонам света, начиная с востока ‒ стороны восхода солнца Бабушке Земле с песней, содержащей не только благодарность, но и просьбу впредь оказывать помощь. Под восхищенные взгляды опытных охотников, молчаливо наблюдавших, ловко разделав тушу, испытуемый развел костер. «Быстро расцвел костер под рукою / Неутомимого Идилвея. / Сам же он песню завел. Бросая / Мясо в огонь, как велит обычай». «Кормление» огня героем сопровождалось в первую очередь обращением к Духу Огня, которого у юкагиров считают хозяином, в отличие от некоторых других народов, у которых главенствует хозяйка Огня: «Дедушка Огонь, вкушай досыта / Мяса свежего! Прими / Все, что мною для тебя добыто, / и добычей поделись с людьми / Бабушка Земля, поешь досыта / Свежанины, чем богаты мы».
Обращается герой, бросая куски добычи, с просьбой принять жертву от живых и к ушедшим в иной мир предкам, отмечая, что они внесли свой вклад, помогая ему на охоте. «Я живу, покуда вы живете, / Охраняя путь по тундре мой!» [14, c. 334‒336].
Улуро Адо, как многие другие авторы литератур народов Севера, поэтизирует костер и огонь, используя направляющую роль древних мифов, создает собственные своеобычные мифы и образы, опираясь на устное творчество, закрепляя в сознании современников и потомков знания о миропонимании своего народа. Юкагирский древний «Миф об огне» раскрывает представления этноса о происхождении огня, появлении первого костра. В нем решаются задачи не только расширения знаний о мире, но и приобщения к образцу проявления высокой нравственности. Героизация Небесного человека, который не только спас его народ, но и способствовал переменам в их физическом и духовном развитии. В мифе маленькие люди, помещавшиеся в беличьи шкурки, погибали на земле от невыносимого холода до тех пор, пока не спустился к ним медленно с неба под шум ветра огромный человек в нарядной кожаной одежде. Небесный человек дал им палку, объяснив, как добыть огонь из нее, который спасет их от холодов. Небесный человек незаметно для всех, пока они разводили огонь, исчез. «Улетел на небо, к Богу», ‒ решили они. Маленькие люди постепенно превратились в больших, одетых в красивую юкагирскую одежду. Огонь и костер стали не только спасителями, но и пособниками прогрессивной эволюции этноса. Небесный человек юкагирского мифа ассоциируется по своему действию с Прометеем, который не только принес людям огонь, но и приобщил их к знаниям и умениям, способствовавшим эволюции.
Мифы о происхождении этносов Севера, не имевших письменно закрепленной истории, стали истоком для научных исследований об их эволюции. Этнолог С. А. Токарев в статье «Символика огня в истории культуры», размышляя о зарождении древнейших мифологических представлений об огне, поддерживал точку зрения о связи их с облаками, утверждал, что добывание огня и освоение его повлияло на проведение «границы между человеком и остальным животным миром» [20]. Историк И. С. Вдовин писал о переходящих по наследству священных деревянных приборах по добыванию огня, о тщательной охране семейного огня от соединения с чужим огнем, о том, что во время экспедиции ему не разрешали ставить чайник на семейный очаг, поскольку тот соприкасался с чужим огнем [4]. Рассматривая традиции, связанные с огнем в культуре народов Севера, ненецкий фольклорист С. А. Сязи отмечала, что у многих народов Сибири огонь предсказывал важные события в их жизни и были «особые специалисты», которые могли с ним общаться [19].
В мифах, фольклоре, эпосе народов Севера представлены разнообразные формы взаимодействия человека с родовым костром и огнем как реальной живой сущностью. Персонифицированный костер выступал в качестве моста между человеком и природой, давал возможность почувствовать единение с ней и целым миром.
Представляется, что проявленные поэтами на основе мифологических представлений их народов и творческой интуиции знания могут быть рассмотрены исследователями ряда других наук, дополняя видение эволюции уникальных народов.
Мотив борьбы добра и зла воплощен мансийским поэтом Юваном Шесталовым в стихотворении «Сорни-Най ‒ огня богиня» (пер. Б. Кежуна). В форме традиционного заклятия, обращенного к мансийской богине Сорни-Най. Представляя священную богиню красавицей, поэт выражает сначала свою любовь к ней, надеясь на ее поддержку и ответный огонь любви. «Пусть со мною и тобою вечно будут золотые искры счастья и удачи!». Он просит Сорни-Най, которая солнце на своем челе, поднять «золотую чашу мира» над колыбелями детей и быть благосклонной к добрым и душевным людям, «что несут тепло и свет», но не к тем, «что сеет зло». Поэт шлет заклятье «злой ведьме с хищным взором: «пусть несчастье не накличет острой злой ее язык!» [24, с. 114‒115].
Развивая мотив осуждения человеческой вражды и злобы, Шесталов в стихотворении «Огонь на огонь» (пер. Н. Грудининой) сравнивает их с негативными проявлениями стихии огня в тайге, предлагая читателю представить кедра-красавца, которого «изгрыз и обуглил огонь». Поэт высказывает свою позицию обращения с клеветниками: не молчать, а отстаивать правду. Он считает, что «надо «острой молнией стать, а потом словно гром прогреметь и обрушить огонь на огонь, чтоб недоброе пламя погасло!» [24, с. 110].
Двойственное отношение к огню Шесталова отражает воздействие фольклора, в том числе и нового, возникшего и трансформировавшегося в иных исторических условиях. В современном варианте мансийской сказки «Ёганское Огнище» включено и новое историческое время как продолжение деяний прошлого. Мифический, достойный доброй памяти, по мнению сказителя, герой Ёган, умевший «разговаривать» с окружающими его обитателями-зверями, водой, рыбами, заботился о них, но мог и усмирить строгим звучным голосом, который, повторяя, передавали деревья и звери. Однажды прибежал к нему с опаленной бурой шерстью медведь и рассказал об обидевшем его Огнище. Ёган отправился на поиски обидчика и исчез, к огорчению напрасно искавших его зверей, на многие годы. Причина его исчезновения была в том, что, отыскав на дне озера подземный ход, он встретился с Огнищем. Восхитившись красотой огненного света, герой увидел и жесткие игры его, способность уничтожать все окружающее. Огнище обратилось к Ёгану с просьбой выпустить его на землю, но он не согласился и предпочел уснуть долгим сном. Заканчивается сказка картиной нового времени, когда приехавшие к Ёганской речке люди, которым подсказал ревом медведь, где искать Огнище, выпустили его, построив железные вышки. Когда взметнулось к небу огненное зарево, залив светом всю округу, прибежали на берег звери, стремясь отыскать среди окружающиего своего Ёгана. «И не зря, говорят люди, они его ждали. Тут он был! Раз людям свое огнище отдал, ‒ значит, и сам в родной край вернулся. След его и соболь видел, и лиса на поляне учуяла».
Возвеличенным в поэзии народов Севера стал подземный огонь, добытый мужественными газодобытчиками, которых именует Прометеями в своих стихах Юван Шесталов. «Огонь был всегда и прекрасен, и вечен», ‒ заключает он третий стих цикла под названием «Семь заповедей огнедобытчика» [23, с. 36].
Целый ряд стихотворений и поэм геологам и добытчикам «голубого огня», их выдержке и мужеству посвятил ненецкий поэт Леонид Лапцуй («Трасса», «Пути-дороги», «Надымский меридиан», «Новая легенда», «Сполохи Севера»). «Дыханием подземных духов считали наши предки газ», ‒ писал он в поэме «Сполохи Севера», материалом для которой стали реальные факты из жизни Ямала.
Создавая мифопоэтический образ родового костра, ненецкий поэт Леонид Лапцуй не только широко раскрыл значимость его для своего этноса, но и представил вариант глубинного синкретизма человека и природы. В стихах и поэмах поэта просматривается отмеченное и у некоторых других северных литераторов авторское сопоставление родового костра с мировым древом, связывающим три мира. Ярко выделена и воспета роль родового костра в выживании этноса в суровых условиях в стихотворении Лапцуя «Родовой костер» (пер. Я. Козловского), где звучат мотивы стойкости, мужества быть настоящим человеком – ненцем (самоназвание народа). Поэт рисует картины темного зимнего периода жизни в тундре, когда «косматым шаманом танцует пурга», «ветер, у черного духа в чести, / Готов, подхватив нас, во мрак унести». Олицетворенные уже в мифах и фольклоре пурга и ветер представлены врагами, ищущими свою живую добычу. Сражаются они не только с человеком, но и с его жилищем: «И старому чуму, который кряхтит, / Он в бешенстве ребра сломать норовит». Эмоционально устрашающая картина борьбы и противостояния дана для возвеличивания значимости как воли человека, так и спасительного родового костра. Воздействуя на появление у читателя осознания сложности бытования в суровых условиях Севера, закрепление его эмоциями способно воздействовать на укрепление долговременной памяти и формирование поступков. Лирический герой-рассказчик для снятия напряжения представляет далее в стихотворении строки, раскрывающие веру в силу родового костра и связь его с небесным миром. Герою даже в пределах «невьюжной зимы» и вдали от дома снится родовой костер и то, как «красные искры летят в дымоход, / Как будто бы звезды в ночной небосвод». А сидящие вокруг костра старцы, глядя на улетающие искры, мыслями устремляются в белый простор, ведут неторопливый разговор о важности соблюдения обычаев предков, необходимости чтить их на охоте, чтобы была совесть перед тундрой чиста. В эпилоге Лапцуй, обращаясь к детству и своим годам и дням, проведенным в тундре, знакомит читателя с собственным жизненным кредо: «И меж стариками почтенье храня, / Люблю я на шкуре сидеть у огня. / Не раз, леденея на диком ветру / Я путь находил к родовому костру. / Останусь и впредь, в чем поклясться могу, / Пред этим костром в неоплатном долгу» [10, с. 24‒25].
Следует отметить, что, будучи жителем Ямала, не оставляя его, Лапцуй до конца дней своих и в поэзии, и в общественных деяниях был верен означенному обещанию хранить память о предках, о традициях, об их фольклоре и языке.
В представлениях ненцев таинственной силой огня обладают солнце и звезды, приносят, согласно фольклору, и добро, и зло. Поэт из рода Паханзеда Большеземельской тундры (Архангельская область) Василий Ледков в стихотворении «Звезда Голубого Огня» раскрывает двойственное восприятие Полярной звезды, художественно представляя сверхтонкое ощущение ее воздействия, вызывающего то любовь, то страх. Сакральная звезда нередко восхищает: «Точно рыбка в темной волне, / точно детский смех в тишине, / или в стужу ‒ тепло окна; / точно брызнула в синий лед / золотой пешни острие». Но присутствуют моменты, когда свет ее пугает и угрожает, становясь в воображении сердитым взглядом божества Нума, и тогда, уточняет автор, «прадед мой забивался в чум», бледнели испуганные женщины. Усиливает силу воздействия и человеческая недоброжелательность по отношению к звезде: «Затаив бессильное зло, / говорит соседу сосед: / Голубая звезда тепло / по ночам из чума сосет» [12, с. 29].
О способности родового костра знать жизнь подземного мира свидетельствуют «рассказы» его о рождающихся там стихиях ‒ ветре и морозе, запечатленные в стихотворении В. Ледкова «Костру-буяну…».
Возвращение к памяти предков и участие в этих воспоминаниях родового костра присуще целому ряду поэтов Севера. Ительменская поэтесса Н. Д. Суздалова, жительница Камчатки, посвятила историческому прошлому, традициям не только своего рода, но и всего немногочисленного народа ряд стихотворений, рассказов-зарисовок, собранных и сочиненных сказок (сборники «Те собачьи упряжки умчались…», «Огненная шаманка», «Последнее пришествие»). В стихотворении о таежном буром медведе «Страшный хозяин» поэтесса возвращается к памяти своих предков. Из иллюминатора самолета, летящего над местом ее рождения в Тигильском районе, она видит древнюю юрту и костровище. Это восстанавливает картины детства. Перед глазами родовой костер, «на костре обгоревший таган». В сознании встают былые картины общения с предками у родового огня, и она, мысленно обращаясь к предкам, задает сокровенный вопрос: «Где вы, куда от меня вы ушли?».
В основу многих произведений поэтов и прозаиков положены автобиографические материалы, и в них нередко присутствует родовой костер. В стихотворении мансийского поэта Андрея Тарханова «Костер памяти» герой-рассказчик вспоминает детские годы, периодически посещая традиционное у северян для встречи с предками чумовище – место, где в прошлом горел костер и ставили чум или ярангу ‒ переносные жилища во время кочевья. Здесь в пламени огня, а порой и просто в оставшейся золе ощущали вернувшиеся даже давно заброшенное место, видели очертания и «общались с ушедшими в иной мир». Обращается, как к живым, к родителям, явившимся на встречу с ним к месту костра, где «есть пепел костра, что давно отпылал» [14, с. 158].
В памяти чукотской поэтессы Клавдии Геутваль (стихотворение «Костерок») воспоминания о детстве, об ушедших в иной мир родителях пробуждают запахи родового костра. Видения отца, поднимающего дочь на руки, и матери, заботящейся о детях, появляются перед героиней у горящего костра, порождая целые картины и настраивая на размышления о вечности. С собственным запахом в свете костра предстает и трубящий в белую ночь олень, и «запах тех песен, что слышит дитя в шуме зим». Возникает и вглубь ведущее поэтическое размышление автора: «Костерок ‒ / Друг, со мною печаль коротающий, ‒ / Это запах веков, / Исчезающий вместе с ним» [14, с. 158].
Благодаря присутствию в текстах концепта «родовой костер» и созданной им концептосферы в поэзии нередко предстает мир наслаждения и радостей, пробуждающий эти эмоции и у читателя. При рассмотрении гедонистической функции литературы, которая связана у поэтов народов Севера с их романтическим стремлением создать образы с жизнеутверждающей, духоподъемной силой, были отмечены мотивы гордости за умение преодолевать трудности выживания и радости побед, наслаждения разнообразными редкими моментами покоя, тепла и света. Речь идет о ренессансном гедонизме с его поиском основ счастья, выдвигающем идею естественного права человека на удовольствие и наслаждение жизнью в гармонии с окружающим миром. Так, в стихотворении «Сон у костра» Леонида Лапцуя предстает основанное на жизненном опыте гедонистическое восприятие родового костра и огня. Воспоминания о древних предках, когда переходил костер из рода в род и хранили его бережно в дымных чумах старики, к которому устремлялись мысленно и наяву и охотник, и оленевод ‒ «завьюженный каюр» (проводник упряжки), приводят автора в восхищение, и рождаются строки о радости вернувшегося к спасительному костру: он протягивает к нему руки, «словно было божество языкатое пред ним. И усталость, точно лед, таяла перед костром, и блаженно теплота разливалась по лицу» (пер. Я. Козловского). Поэт родовой костер сравнивает с незакатным солнцем, называет негасимым и «дедовским», уточняя в стихах, что именно старики не только заботились о костре и «кормили» его, но и – главное ‒ рассказывали много чудесного из прошлой жизни, а во время празднеств огненными танцами демонстрировали содержание легенд и сказок. Передает поэт читателю и радость своих предков по поводу появления в семье детей, особенно радовались рождению сыновей, потому что будет кому «золотой кормить огонь». Лирический герой во второй части стихотворения «Сон у костра», возвращаясь в свое детство, видит себя сидящим у родового костра и постепенно погружающимся в отсветах огня в глубокий «тюлений» сон, пребывает в благостном состоянии. Будто он рядом с искрами костра летит по темным небесам. Появившееся красное солнце, обличием своим уподобившись костру, плывет рядом. Себя же герой воображает мчащимся на оленях, ловко владеющим хореем, охотником за дымящимися хвостами песцов. Представления о родовом костре в поэзии Лапцуя нередко тесно связаны с онейрией, особым видением мира, обретаемым человеком во сне или в дремотном состоянии, полузабытьи. Подобные действия во сне, такие как подъем и полет, Мирче Элиаде в книге «Мифы. Сновидения. Мистерии» [25] рассматривал как символ перехода из одного состояния бытия в другое, что часто связывается с онтологическими изменениями при обряде перехода. В стихотворении «Сон у костра» сновидение подростка стало своеобразным воплощением его мечты об обряде инициации. Эта мысль просматривается и в заключении стихотворения: «И не знал в ту пору я, / Что, летящие во сне, / Быстро мальчики растут, / Чтобы юношами стать» [10, с. 28]. Мысленно родовой костер присутствует у героя в образе солнца даже во сне.
Ощущение благости огня, тепла родового костра, как и эйфории полета, воздействовали на появление у авторов радости, счастья, способствовали рождению пафоса в поэзии и созданию мифообразов. Поэтические образы сродни мифопоэтическим, однако, отмечая сходство поэзии и мифа, философ Лосев предлагал обратить внимание как на сходство, так и их специфику поэтических и мифологических образов, увидеть в мифологических образах «чудесного как реального факта», а не его «модификации» [11, с. 377].
Красоту костра эскимосская поэтесса Татьяна Ачиргина сравнивает с летней золотою зарею. Оказавшись на берегу моря летней порой, героиня стихотворения «Белоночье» развела чудо-костерок, который способен не только уют сотворить и теплом одарить, но и поговорить с ней, «одиночество скрасить девичье». «Язык» родового костра северные народы хорошо знали, судя и по литературе, и по этнографическим материалам [14, с. 344‒345].
Верой в бессмертие родового костра наполнены строки саамской поэтессы Октябрины Вороновой: «Хочу остаться на земле / Хотя бы искоркой в золе». Стихотворение без названия написано на саамском и переведено ею на русский. Самоперевод был творческим процессом у целого ряда поэтов и писателей народов Севера.
Как основу сохранения жизни в суровых условиях Севера воспевает костер ненецкий поэт Прокопий Явтысый в стихотворении «Закон выживания в тундре суров…». Поэт надеется на возможное исполнение последнего желания, отправляясь душою в последний земной путь к созвездьям, «сквозь вечность хоть раз разглядеть – костер среди снега, костер среди льдов» [27, с. 87].
Опираясь на образцы устного творчества манси, Юван Шесталов выстраивает в форме диалога, вопросов-загадок свои представления о мироздании и размышления о месте человека в нем в цикле девяти стихотворений под названием «Небо и земля» (авторизованный перевод). Сполохи северного сияния поэт именует большим добрым огнем, золотым костром, у которого мечтает посидеть и принести его на землю, «чтобы было тепло, светло, высоко». Игровой диалог с загадками дедушки и внука соединяет северное сияние и солнце с земным костром, пламя которого рождает мечты постижения мира.
Заинтересованно и пафосно звучат направленные на самоутверждение внука слова представителя старшего поколения (и автора): «Да будет тебе известна суть пламени, / Ты – манси, ты – человек. / Ты можешь согреть землю, / Объятую вечной мерзлотой», «Тебе, манси, дан дар – познать суть высокого пламени / И согреть остывающую землю словом, делом, умом. / Тебе, манси, дан дар постижения бесконечного мира. / Тебе, манси, дан дар быть человеком» [23, с. 5‒11].
По отношению к огню, наряду с проявлением любви и добра, присутствует в стихах и негативное восприятие его. Развивая мотив осуждения человеческой вражды и злобы, Шесталов в стихотворении «Огонь на огонь» (пер. Н. Грудининой) сравнивает их с негативными проявлениями стихии огня в тайге, предлагая читателю представить кедра-красавца, которого «изгрыз и обуглил огонь». Метафорично поэт выражает свою позицию обращения с клеветниками: не молчать, а отстаивать правду. Он считает, что «надо «острой молнией стать, / А потом словно гром прогреметь, / И обрушить огонь на огонь, / Чтоб недоброе пламя погасло!» [24, с. 110]. В стихотворении «Не хочу» (пер. В. Крутецкого) поэт Шесталов проявляет свое негативное восприятие огня войны ‒ напалма, осуждает ядерное оружие и использование его в Хиросиме, противопоставляет его разрушение благостному гедонистическому огню любви: «О, любви огонь, ворвись мне в душу, / Лишь тебя я жду / И воспеваю» [24, с. 61].
Эвенский поэт Андрей Кривошапкин в главе «Об огне» этнографической поэмы «Мир эвена» называет Духа Огня как хозяина огня, пришедшего из эвенских мифов и легенд, великим другом своего народа, поскольку это могущественное божество является охранителем жизни и благополучия эвенов. Поэт объясняет читателю первопричину особого внимания эвенков к Духу Огня древним поверьем в то, что, поклонившись этому сакральному невидимому существу перед уходом на охоту, тот поможет и вывести на путь зверя-добычи, и развести на стоянке спасительный костер. В мифологическом представлении и героя-охотника, и самого автора Дух Огня ‒ антропоморфная сущность, «как человек живой: он собеседник и товарищ всем, / кто с ним во тьме умеет говорить / с открытым сердцем, где местечко есть / надеждам и сомнениям живым» [14, c. 159]. Называя огонь колдуном, источником чудес, поэт представляет реальные и воображаемые картины, раскрывающие смыслы «бесед» с огнем. Так, если домашний очаг, будучи спокойным и ярким, вдруг начинает пританцовывать, жужжать и бормотать, то это знак от Духа Огня о том, что скоро будет гость издалека. И тогда хозяева начинают готовить к встрече лучшую еду и шкуры для гостевых сидений. Но если в уснувшем очаге неожиданно огонь с треском оживет и, «словно выстрел, прозвучит «син-кэн!» («син-кэн» ‒ звукоподражание треску дров в костре), то это предупреждение о возможном бедствии, к которому надо подготовиться. Среди перечисленных угроз и снежная лавина в горах, и шатун-медведь.
Описывая в главе «Об Огне» суровые условия и непосильное напряжение охотника во время многодневной погони за диким оленем, Кривошапкин, создавая образ охотника, сопрягает его с образом костра. В самых сложных условиях, там, где застанет ночь во время погони, проявлял охотник волю и умение развести костер и согреться около него на долго сохраняющих тепло углях. Костер не только согреет, но и очистит душу молодым дымком, чтобы с проблесками утренней зари продолжилась погоня.
Известна очистительная сила дыма ‒ изгнание отрицательной энергии темных духов. Для оленеводов и оленей в летнее время ‒ спасительное средство. Как компонент костра дым, вбирающий в себя энергию огня и воздуха, может быть разнообразным по силе движения – то стремительным, то широко стелющимся, а также по запаху, зависящему от местного топлива (ветки деревьев, трава, хворост и др.). Через него, по мнению северных народов, осуществляется «кормление» духов огня и духов местности, а также жертвоприношение божествам. Присутствовала у них твердая уверенность в очистительной силе дыма, в том, что он уносит с собой болезни и силу заговоров. Об особенностях восприятия дыма костра даже на больших расстояниях, использования его в качестве ориентира поделился с читателями Лапцуй в стихотворении «Возвращение с охоты» (пер. Я. Козловского). У героя стихотворения, молодого охотника, заметившего, что олени в упряжке ускорили свой бег, появилось предположение, что они раньше его почуяли чутким своим нюхом дым костра и близость стойбища. Для убедительности поэт уточняет: «И оленям доверять / Может более стрелок, / Чем светящейся во мгле / Стрелке компаса в пути». Раскрывая тему, поэт использует рецепцию ‒ обращение не только к читателю из числа северян, но и к незнакомому с миром Севера, с традициями коренных народов.
Эвенкийский поэт из числа переселившихся из внутренних районов Сибири и получивших название сахалинских Григорий Чинков (1918‒1960), знаток и собиратель фольклора, в поэтической сказке «Сулакичан» («Храбрый лис») и в стихах стремился раскрыть народные и собственные представления о таинственном родовом костре. В стихотворении «Дымок» он, размышляя о пути «белесого сквозного» дыма (дымка), поднимающегося от костра на берегу таежного озера, ассоциирует его с судьбой человека. Доверившийся ветру дымок шатается с ним по свету. Звучат явно навеянные «Парусом» Лермонтова вопросы: «Куда же держит он свой путь? / И сам он этого не знает. / Чего он ищет наверху? / Куда полет свой направляет?». Герой видит в небе красоту движений дыма, замечает, как «И искры пламенный узор / В вечернем небе вышивают» [14, c. 147].
В стихотворении хантыйского поэта Романа Ругина «Дым костра» (пер. И. Фонякова) горьковатый, терпкий, трепетный запах дымка родового костра становится символом родного края, навевает воспоминания о значимых жизненных моментах. «Был я вскормлен костровым дымком / Как бальзамом живительным, как / Материнским святым молоком». Поэт обещает не забывать и воспевать костер и дает рекомендации, следуя традициям, беречь его: «Но учти: он не любит игры, / Мстит бездумному ‒ и потому / Разводить ради шутки костры / Не советую я никому» [14].
Поэты нередко, используя родовой костер как символ передачи опыта, традиций, открыто или закодированно формировали своего имплицитного читателя разных возрастов. О значимости рецепции для развития литературы М. Бахтин писал: «Вопрос о концепции адресата речи (как представляет и ощущает его себе говорящий или пишущий) имеет громадное значение в истории литературы. Для каждой эпохи, для каждого литературного направления и литературного художественного стиля, для каждого жанра в пределах эпохи и направления характерны свои особые концепции адресата литературного произведения и понимание своего читателя, слушателя, публики, народа» [2, с. 296].
Поэтизирование костра и огня в литературе народов Севера нередко сопряжено с дидактикой и просветительством, с традиционной инициацией. Тема становления подрастающего поколения, инициации в переходные моменты на иную ступень взросления плавно перешла из мифов и фольклора в развивающуюся письменную литературу народов Севера. Среди ритуалов во время общественного признания достигнутых успехов в подготовке пребывания на новом жизненном этапе являлось карнавальное празднество у родового костра. В стихотворении «Возвращение с охоты» (пер. Я. Козловского) ненецкий поэт Леонид Лапцуй пишет: «Юноша, впервые добывший несколько песцов, представляет себе радостное продолжение дня. И сегодня у костра, / По обычаю отцов, / Он охотником при всех / Должен быть провозглашен». Поэт уточняет читателю суть традиции и внутреннее напряженно-светлое самоощущение юноши, пребывающего в ожидании перехода из возраста отрочества в зрелость [10, с. 17‒19].
Обращаясь к юному читателю, Шесталов предлагает беречь таинственный душевный огонь, полученный в семье от родственников, дающий силы и помогающий остаться в сердцах людей: «Материнский огонь не гаси, / И отцовский огонь не гаси, и братишкин огонь сберегай… / Свой огонь молодой зажигай ‒ / Пусть сильней он и ярче горит, / Пусть он имя твое озарит!» [23, с. 54].
Рецепция в стихотворении «Слушай меня, дочурка…» чукотской поэтессы и прозаика Валентины Векет, рожденной в семье зверобоев Уэлена, определена стремлением автора передать подрастающему поколению знания и умения, обретаемые в процессе инициации, в числе которых и традиция обращения с огнем. Предстают картины для подготовки инициации будущих хозяек. Обращаясь к истории, поэтесса упоминает прежде всего древний жирник, который в яранге служил и продолжает порой в экстремальных ситуациях быть и обогревателем, и источником света. Его яркие всполохи поддерживает девушка, подкладывая сухой мох. Наставления в овладении мастерством Вэкэт завершает появлением иных чувствований, ассоциирующихся с огнем: «Вырастешь ‒ испытаешь / Томленье огня в крови. / Учись красоте у жизни, / А у людей любви» [14, с. 265].
Огонь, костер для северных народов постепенно становится символом единения и поддержки не только рода. В стихотворении «Мое зимовье» нивхский поэт и прозаик Владимир Санги знакомит читателей с традицией народа: для поддержки путников в лесотундре и тайге северяне в избушках оставляют дрова и средства для получения огня и сушеное мясо или рыбу-юколу. Автор представляет выбившегося из сил и измученного метелью человека, который слышит голоса, зовущие его ‒ следствие морока: «И чудится путнику, / Будто сквозь снег / Кто-то его, окликая, зовет. / Ни следа вокруг, ни жилья, ни огня, / он силы теряет…». Неожиданно обнаруженное строение спасает охотника.
Рецепция в эпилоге наполнена доброжелательным советом не только северному читателю: «И если признательным быть мне готов, / То Севера древний исполни завет: / Зимовье с запасом юколы и дров / Оставь для того, кто шагает вослед» [14, с. 223].
В написанном в духе народных сказаний, стихами в сочетании с прозой, произведении «Земля предков» (пер. А. Гажи) чукотского поэта и прозаика Ивана Омрувье представлены философские размышления героя-автора о Вселенной, о скрытых сакральных знаках на небе. На вечернем горизонте герой увидел цепь мерцающих огней и представил медленно и грузно шагающих мамонтов и своих древних предков вокруг костров. Он обратился к ним с приветствием, но в ответ услышал лишь «краткий вздох Вселенной» и, возвратившись к реальности, обратился к горам с вопросом о том, где затерялись следы предков, но они хранили молчание: «Только медленно ворочаются во Вселенной сгустки звезд ‒ отражения далеких костров, огонь которых до сих пор тщательно поддерживают мои предки. Они дали мне начало пути, и они научили меня быть человеком!» [15, с. 124‒125].
ВЫВОДЫ
Художественный концепт «родовой костер» содержит сакральность, заложенную мифами. Несмотря на социальные изменения и процесс ремифологизации, создавая письменную литературу, поэты народов Севера бессознательно и осознанно опирались на мифологизм, его своеобычное представление о мире, сохранившееся в их сознании и поддерживаемое как «неофициальной» этнокультурой бытования, так и устным народным творчеством. Очевидна связь родового костра с идеей семейного и родового древа, которое символизирует связь между предками, нынешними поколениями и потомками. Каждый участник рода привносил свою энергию и индивидуальность в магический костер, каждый из участников рода создавал своеобразное коллективное поле силы. Его поддерживали и усиливали традиции, обряды, ритуалы, заклинания.
Поэтические произведения литературы народов Севера, содержащие концепт «родовой костер», позволяют сделать вывод о направленности авторов в большей степени к эпическому, чем лирическому творчеству. Они устремлены к изображению картины мира своего этноса, внешней действительности, к объективности. Развитию эпического способствовали и бытовавшие в культуре мифы, мифы-сказки, эпос. От эпического поэта, по мнению Гумбольдта, требуется с двойным основанием выполнение закона наивысшей чувственности, поскольку он обязан приводить душу читателя в особое настроение, внушая необходимость «выйти из своих пределов и возвыситься до фантазии с ее высоким и широким полетом, пробуждать мысли, которые позволили бы нам глубоко проникать своим взглядом в значительные отношения человечества и мира, выражать инакие чувства, которые гармонически связывали бы нас с природой, и оживлять свой материал богатством и чувственностью изложения, слога, ритма» [6, с. 262].
Концепт «родовой костер» обладает невербализованной частью сознания. Поэты создавали эстетически воздействующий образ «родового костра», наполненный самобытной реальной жизнью северян, их мировидением. «Запахи», «молчаливое общение», «звуки и знаки природы» соучаствуют в создании художественности самобытных произведений.
Литература и фольклор народов Севера, ее тексты и контексты, синонимика культурных кодов ‒ богатый и недостаточно изученный с опорой на когнитивный подход источник знаний о формировании национального этоса и социокультурного взаимодействия в условиях транскультурации, о творческом процессе и о художественном сознании.
References
- Askol’dov S. A. Koncept i slovo [Concept and word]. Russkaja rech’. Novaja serija. Vyp. 2. Lеningrag, ACADEMIA Publ., 1928, pp.28–44.
- Bahtin M. M Avtor i geroj. K filosofskim osnovam gumanitarnyh nauk [Author and hero. To the philosophical foundations of the humanities]. Saint-Petersburgh., Azbuka Publ., 2000. 336
- Beskova I. A. Jevoljucija i soznanie: kognitivno‒simvolicheskij analiz [Evolution and consciousness: cognitive‒symbolic analysis]. Moscow, Institut filosofii RAN Publ., 2001. 268 p.
- Vdovin I. S. Religioznye kul’ty chukchej [ Religious cults of the Chukchi]. Pamjatniki kul’tury narodov Sibiri i Severa. Leningrad, Nauka Publ., 1977, pp. 117‒171.
- Golovnev A. V. Kochevniki tundry: nency i ih fol’klor [Tundra nomads: Nenets and their folklore]. Ekaterinburg, UrORAN Publ., 2004. 344 p.
- Gumbol’dt V. Jazyk i filosofija kul’tury [Language and philosophy of culture]. Moscow, Progress Publ., 1985. 452 p.
- Zhirmunskij V. M. Sravnitel’noe literaturovedenie. Vostok i Zapad [Comparative literary criticism. East and West]. Leningrad, 1979. 492 p.
- Zav’jalov Ju. V. Neobjavlennaja psihoterapija [Undeclared psychotherapy]. Moscow, Akadem. Proekt Publ., 1999. 250 p.
- Iz veka v vek. Pojezija hantov, mansi i nencev [From century to century. Poetry of the Khanty, Mansi and Nenets]. Moscow, Pranat Publ. 2016, 272 p.
- Lapcuj L. V. Puti‒dorogi. Stihi i pojema. [Ways‒roads. Poems and poem]. Moscow, Molodaja gvardija, 1983. 63 p.
- Losev A. F. Samoe samo. Sochinenija [Itself. Writings]. Moscow, JEKSMO‒Press Publ., 1999. 1024 p.
- Ledkov V. N. Golubaja strana [Blue Country]. Arhangel’sk, Severo-zapadnoe knizhnoe izdatel’stvo, 1975. 128 p.
- Lihachev D. S. Konceptosfera russkogo jazyka [The concept sphere of the Russian language]. Lihachev D. S. Izbrannye trudy po russkoj i mirovoj kul’ture. Saint-Petersburgh, SPbGUP Publ., 2015. 540 p.
- Pojezija narodov Severa i Dal’nego Vostoka Rossii [Poetry of the peoples of the North and the Far East of Russia]. Moscow, Severnye prostory Publ, 2002. 384 p.
- Poju tebja, Chukotka! Stihi pojetov narodnostej Krajnego Severo‒Vostoka [I sing you, Chukotka! Poems of poets of the peoples of the Far Northeast]. Magadan, Magadanskoe knizhnoe izdatelstvo, 1983. 176 p.
- Pushkareva E. T. Neneckij mif‒skazka ‒ obrazec rannih pojeticheskih form [Nenets myth‒fairy tale ‒ an example of early poetic forms]. Fol’klor i jetnografija narodov Severa. Mezhvuzovskij sbornik nauchnyh trudov. Saint-Petersburgh, RGPU im. A. I. Gercena Publ., 1992, pp. 44–72.
- Stepanov Ju. S. Tonkaja plenka civilizacii [Concepts. Thin film of civilization]. Moscow, Jazyki slavjanskih kul’tur Publ., 2007. 248 p.
- Stihi pojetov Severa [Poems by poets of the North]. Comp. V. M. Sangi. Moscow, Detskaja literatura Publ., 1977. 112 p.
- Sjazi A. M. Ogon’ v tradicionnoj kul’ture i fol’klore narodov Severa [Fire in the traditional culture and folklore of the peoples of the North]. Nauchnyj vestnik JaNAO, 2014, Iss. 1 (82), pp. 51–58.
- Tokarev S. A. Simvolika ognja v istorii kul’tury [Symbolism of fire in the history of culture]. Jetnograficheskoe obozrenie, 1999, no 5, pp. 36–41.
- Trofimova A. V. Ogon’ kak geshtal’t vnutrennego mira cheloveka [Fire as a gestalt of the inner world of man]. Voprosy gumanitarnyh nauk, 2004, no 6, pp. 119‒134.
- Khazankovich Ju. G. Fol’klorno‒jepicheskie tradicii v proze malochislennyh narodov Severa .Monografija [Folklore and epic traditions in prose of the small peoples of the North]. Novosibirsk, SO RAN Publ., 2000. 131 pp.
- Shestalov Ju. N. Poljarnyj krug [Arctic Circle]. Moscow, Moldaja gvardija Publ., 1983. 111pp.
- Shestalov Ju. N. Ogon’ i sneg: Stihi i pojemy [Fire and Snow: Poems and Poems]. Moscow, Sovetskaja Rossija, 1979. 304 pp.
- Jeliade M. Aspekty mifa [Aspects of the myth]. M., Akademicheskij proekt Publ., 2023. 235 pp.
- Jung K. G. Ob otnoshenii analiticheskoj psihologii k pojetiko‒hudozhestvennomu tvorchestvu [On the relationship of analytical psychology to poetic and artistic creativitys]. Zarubezhnaja jestetika i teorija literatury 19‒20 vv. Traktaty, stat’i, jesse. Moscow, MGU Publ., 1987, pp. 214–231.
- Javtysyj P. A. Vzojdet rostok dushi. Stihotvorenija [A sprout of the soul will sprout: poems]. Nar’yan. Mar, NO IUU Publ., 1996. 89 p.