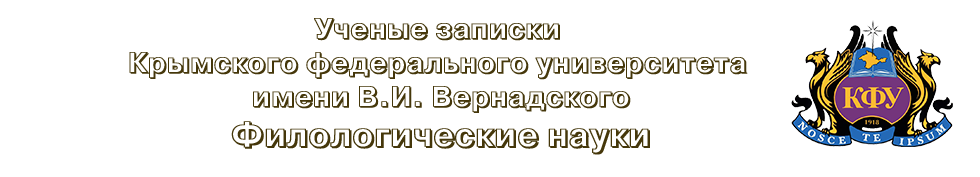A. F. PISEMSKY’S COMEDY «PREDATORS» IN THE CONTEXT OF THE SECOND HALF 19th CENTURY PLAYS ABOUT OFFICIALS
JOURNAL: «Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philological sciences», Volume 11 (77), № 3, 2025
Publication text (PDF): Download
UDK: 821.161.1
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:
Kazaryan N. S., V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation
TYPE: Article
DOI: https://10.29039/2413-1679-2025-11-3-51-65
PAGES: from 51 to 65
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: A. F. Pisemsky, comedy, social issues, character system, motive, author’s position.
ABSTRACT (ENGLISH): The article is devoted to solving the question of the correlation degree of A. F. Pisemsky’s comedy «Predators» with the poetics of Russian classical plays about officials in the second half of the 19th century main features («A Profitable Place» by A. N. Ostrovsky, «Shadows» by M. E. Saltykov-Shchedrin, «The Case» and «Death of Tarelkin» by A. V. Sukhovo-Kobylin). The plays under consideration are united by the acuteness of social issues, similar principles of portraying the St. Petersburg higher bureaucracy, careerism and bribery of officials, the uncertainty of genre identification, and the method of zoologizing images. The ideological and thematic similarity of the plays «Predators» and «Shadows» has been revealed. Unlike the plays of Ostrovsky, Saltykov-Shchedrin, and Sukhovo-Kobylin’s «The Case», Pisemsky’s comedy is devoid of sympathetic characters, which makes it similar to «Death of Tarelkin», but «Predators» does not contain grotesque deformations and farcical features. In the finales of the plays under consideration (with the exception of the « A Profitable Place») there is no triumph of virtue, which underlines the idea that it is impossible to eliminate the depravity of the bureaucratic social order. Comedy of A. F. Pisemsky «Predators» draws on the artistic discoveries of contemporary playwrights, authors of plays about officials, and creatively develops them, which reveals, on the one hand, the common ideological and artistic aspirations of Russian playwrights of this period, and, on the other, the distinctive character of Pisemsky’s comedian.
ВВЕДЕНИЕ
Драматургия (в частности, комедиография) А. Ф. Писемского представляет собой наименее изученный аспект художественного наследия автора. Вместе с тем следует обратить внимание на определяющий актуальность настоящей работы интерес исследователей к изучению комедий писателя в контексте национальной жанровой традиции [38; 39; 16; 1; 15].
Тема чиновничества в творчестве Писемского занимает значительное место [7, с. 44]. Среди работ, посвященных анализу его произведений в контексте драматургии о чиновничестве, следует выделить статью К. Ю. Зубкова [13], в которой рассмотрен роман Писемского «Тысяча душ» в сопоставлении с близкими по времени создания комедиями о чиновниках В. А. Соллогуба, А. А. Потехина и Н. М. Львова. Н. Л. Ермолаева обнаруживает переклички между «Мишурой» Потехина, «Доходным местом» Островского и произведениями Писемского «Тысяча душ» и «Ваал» [7, с. 44]. Следует обратить внимание на отсутствие работ, посвященных рассмотрению комедии А. Ф. Писемского «Хищники» (1873) в контексте пьес второй половины XIX века о чиновниках. В настоящей статье выбор четырех пьес о чиновниках в качестве материала для сопоставления обусловлен их принадлежностью к русской драматургической классике [10, с. 150]: комедия А. Н. Островского «Доходное место» (1856) наметила пути развития социально-политической комедии, представленной пьесами М. Е. Салтыкова-Щедрина «Тени» (1862), А. В. Сухово-Кобылина «Дело» (1861) и «Смерть Тарелкина» (1869) [3, с. 364].
Д. П. Святополк-Мирский, ограничиваясь общими замечаниями, выделяет Писемского и Сухово-Кобылина как «двух драматургов, приближавшихся к Островскому если не по количеству, то по качеству своих произведений» [23, с. 382] с оговоркой, что пьесы первого «длинны и технически несовершенны…» [23, с. 386]. А. И. Журавлева включает комедию «Хищники», по цензурным соображениям именовавшуюся «Подкопами», в один ряд с «Тенями» Салтыкова-Щедрина и пьесами Сухово-Кобылина как сатирическими комедиями, обличающими чиновничьи злоупотребления [10, с. 151]. Также исследователь отмечает «общий мрачный колорит» [10, с. 159], присущий драме Сухово-Кобылина «Дело» и поздним комедиям Писемского, к которым относятся «Хищники».
Цель статьи заключается в решении вопроса о степени корреляции комедии А. Ф. Писемского «Хищники» с магистральными особенностями поэтики русских классических пьес второй половины XIX века о чиновниках («Доходное место» А. Н. Островского, «Тени» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Дело» и «Смерть Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина). В задачи исследования входит сопоставление с ними комедии Писемского «Хищники» и ее анализ в аспекте таких составляющих, как проблематика, идейно-тематический и мотивный план, система персонажей, жанровая принадлежность, средства воплощения комедийного мира, поэтика финала.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ
Сопоставление пьес названных драматургов необходимо предварить рассмотрением взаимоотношений и творческих связей между ними.
А. Н. Островский и А. Ф. Писемский были дружны. Литературный дебют Писемского связан с именем Островского: последний положительно оценил повесть «Тюфяк» и содействовал появлению ее в печати («Москвитянин», 1850) [3, с. 321]. Известна помощь Островского и в организации постановок комедий Писемского «Ипохондрик» [29, с. 88] и «Финансовый гений» [29, с. 739]. Писемский был знаком с пьесами Островского, в том числе с «Доходным местом», о чем свидетельствует его письмо драматургу от 30 марта 1857 года [29, с. 109]. Уже критика 1850-х гг. использует выражение «драматурги школы Островского» [32, с. 12], куда включает и Писемского. Творческие пути Писемского и Островского тесно переплетены, о чем свидетельствует сходство поэтики комедии Островского «Бедная невеста» и романа Писемского «Богатый жених». В литературоведении обращалось внимание на связь драматургии Писемского и Островского, обусловленную сходным пониманием задач драматического искусства, стремлением к правдивости на сцене. При этом следует отметить отсутствие «какого бы то ни было взаимного влияния» [12, с. 141]. Творческие взаимоотношения Писемского и Островского «вернее всего определить как диалог» [3, с. 322]. В создании сатирической комедии каждый из драматургов «идёт своим путём» [там же].
Знакомство Писемского с Салтыковым-Щедриным состоялось, вероятно, в 1856 г. [36, с. 496]. Статья последнего, посвященная драме Писемского «Горькая судьбина», была написана после первой ее постановки (18 октября 1863 года). Она не имела успеха, что, возможно, оказало влияние на негативную оценку Салтыковым-Щедриным поэтики Писемского в целом [26, с. 93]. Салтыков-Щедрин указывает на то, что в таланте Писемского «поражает необыкновенная ограниченность взгляда <…> и замечательная неразвитость» [35, с. 184]. Автор статьи обвиняет Писемского в отсутствии идеала, повлекшем за собой страдания читателя. Рассуждая о судьбе главного героя, Салтыков-Щедрин отказывает Писемскому в драматизме [35, с. 190]. В адрес Писемского со стороны сатирика было высказано много критических замечаний, но все же Салтыков-Щедрин был далек «от огульного осуждения» [26, с. 98] творчества Писемского. Так, несмотря на разгромную статью, Салтыков-Щедрин, заинтересовавшись пьесами Писемского «Ваал» и «Просвещенное время» [31, с. 180], в 1875 году планировал привлечь того к сотрудничеству в «Отечественных записках». Вряд ли Писемский был знаком с пьесой Салтыкова-Щедрина «Тени»: сатирик «никогда не пытался ее напечатать» [33, с. 209], она не ставилась на сцене и была извлечена из черновиков автора и опубликована лишь в 1914 году.
А. В. Сухово-Кобылин «стоял особняком в литературе по своим политическим убеждениям и образу жизни» [20, с. 450]. Несмотря на то, что его и Островского объединяла единая литературно-театральная среда, драматурги не общались между собой. Сухово-Кобылин видел в Островском скучного автора [3, с. 427]. С большой долей вероятности можно предположить и отсутствие общения Сухово-Кобылина с другом Островского – Писемским, поскольку в письмах последнего [29] нет ни единого упоминания автора «Смерти Тарелкина» и его произведений. Трилогия Сухово-Кобылина в искаженном цензурой виде была опубликована в 1869 году под названием «Картины прошедшего» и не могла не привлечь внимания Писемского-драматурга, однако не сохранилось свидетельств того, что Писемский был с нею знаком.
Комедии Островского, Салтыкова-Щедрина, Сухово-Кобылина сосредоточены на общественной проблематике. Взяточничество и бюрократия в понимании Островского – это порождение общественного уклада; «Доходное место» продолжает традицию «Ябеды» как общественной комедии [41, с. 248]. Пьеса «Тени» обличает не только бюрократическую верхушку, но и государственную систему в целом [40, с. 18]. Художественная идея «Дела» и «Смерти Тарелкина» заключается в обличении бюрократии [33, с. 24]. Комедия Писемского «Хищники» занимает свое место в этом ряду, поскольку ей присуще, как справедливо отмечает Л. В. Манькова, «глубокое общественное и социально-политическое содержание» [22, с. 12].
В роли двигателей сюжета в пьесах Островского, Салтыкова-Щедрина, Сухово-Кобылина выступают карьеризм и взяточничество [4, с. 24]. Не является исключением и комедия Писемского «Хищники», в которой чиновники-карьеристы затевают «подкопы» – «интриги с целию получения мест» [26, с. 169]. Общим в пьесах является место действия: в «Тенях», «Деле» и «Смерти Тарелкина» действие происходит в Петербурге; предполагается, что Петербург является местом действия и в «Доходном месте». В «Хищниках» события также разворачиваются в Петербурге. Именно этот город в русской литературе является главным местом «обитания бюрократии» [17, с. 263–264]. Также объединяет пьесы обличение высшей бюрократической власти. В списке действующих лиц «Доходного места» не указаны чины и звания персонажей, хотя их служебное положение важно для развертывания действия комедии [19, с. 211]. По цензурным соображениям точно не определено положение Вышневского как сановника. В «Тенях» также представлена высшая бюрократия, служащая под начальством Клаверова, который в тридцать лет «уже в чинах и занимает значительное место» [34, с. 334]. В «Деле» к сановникам (они выделены автором в особую группу персонажей – «Начальства») принадлежат «весьма важное лицо» и «важное лицо» [37, с. 125], которых нет в заключительной пьесе трилогии. В «Хищниках» выстраивается иерархия бюрократического мира, объектом внимания также становятся его высшие круги: в подчинение «главного начальника ведомства» [30, с. 425] входят товарищ, директор, камергер. Вполне вероятно, что под должностью графа Зырова подразумевается должность министра [24, с. 169].
В анализируемых пьесах изображено сходное отношение чиновников к своему начальству, заискивание перед ним. В «Доходном месте» Юсов восхищается Вышневским: «Аристарх Владимирыч гений… гений, Наполеон. Ума необъятного, быстрота, смелость в делах» [27, с. 55], Белогубов признается Юсову: «Другой отец того не сделает для сына, что вы для меня сделали» [27, с. 76]. В «Тенях» Свистиков в присутствии своего начальника «ходит в виде наклоненной линии и приподнимаясь на носки» [34, с. 334]. В «Деле» при появлении князя «вся масса чиновников <…> волнообразно преклоняется. Максим Кузьмич <…> изображает повиновение, а быстротою ног – преданность» [37, с. 156–157]. В «Смерти Тарелкина» чиновники «тащат друг у друга бумажники» [37, с. 233], плачут и обнимаются по приказанию начальника. В «Хищниках» Мямлин и Янтарный поют дифирамбы своему начальнику: «…он умен!.. Просвещен!.. Деятелен!.. Знающ! <…> И, наконец, души ангельской!» [30, с. 431], «Бумаги, им написанные, усыпаны брильянтами, алмазами красноречия…» [30, с. 471]. Варнуха в присутствии директора «мгновенно и очень низко поклонился ему и затем опять сейчас же вытянулся в струнку» [30, с. 429], дважды перебивает директора почтительной фразой «Слушаю, ваше превосходительство!» [30, с. 430]. Андашевский, явившись к графу, «как будто бы даже ниже ростом показывает» [30, с. 461].
Также можно отметить сходство в средствах создания образов чиновников в «Деле» и «Хищниках». Экзекутор Живец получил «несколько порций палкою» [37, с. 125], вследствие чего «достиг обер-офицерского звания» [там же]; генерал-майор Варнуха в «Хищниках», напротив, собственноручно бил ссыльных Огюнского завода, за что был также выдвинут – получил «чин генерал-майора» [30, с. 430]. У чиновника Варравина – «кувшинное рыло» [37, с. 125], у Андашевского – «типическая чиновничья физиономия» [30, с. 446]. Шило «иногда и вовсе заикается» [37, с. 126], что соотносится с камергером Мямлиным из «Хищников», имеющим «подергиванье в лице» [30, с. 429]. Описание Касьяна Шило «Клокат. Одет небрежно» [37, с. 126] соотносится с характеристикой Мямлина, появляющегося в IV действии в «невычищенном вицмундире, с непричесанными клочковатыми волосами, с грязными ногтями» [30, с. 468]. Чибисов имеет «приличную, презентабельную наружность» [37, с. 126], «одет по моде; говорит мягко, внушительно и вообще так, как говорят люди, которые в Петербурге называются теплыми» [там же]; в «Хищниках» князь Янтарный «одет <…> в белый галстук и в новенький, с иголочки, вицмундирный фрак <…>. Речь его должна быть несколько похожа на журчанье ручья» [30, с. 468–469].
Наиболее частотны переклички между пьесами «Тени» и «Хищники». Можно обнаружить сходство на уровне сюжетных ходов и системы персонажей. Чиновников Клаверова и Андашевского роднит относительно молодой возраст и успешная карьера. Клаверов – «молодой человек лет 30, но уже в чинах и занимает значительное место» [34, с. 334]. Андашевский «в сорок лет каких-нибудь сделан товарищем!» [30, с. 441]. Тридцатилетний генерал Клаверов сделал головокружительную карьеру «по милости женщин вольного обращения!» [34, с. 355], одна из которых – Клара Федоровна. После того как Клаверов ее бросил, она становится содержанкой начальника Клаверова, и его решения относительно ведомства зависят от прихотей временщицы. Для того чтобы вернуть себе влияние, Клаверов решает отомстить всесильной Кларе, «сватая» старому князю жену Бобырева. В «Тенях» также изображена ситуация, когда «муж делает служебную карьеру через жену» [14, с. 15]: Бобырев уверен в том, что он определен к месту благодаря собственным способностям, но не подозревает, что это – уловка Клаверова. В «Хищниках» чиновник Андашевский поднимается по карьерной лестнице не только потому, что «льстил и подличал перед графом» [30, с. 427], но и, как Клаверов, благодаря женщине – дочери начальника. Ходят слухи, что граф Зыров «выбрал себе в товарищи Андашевского, чтобы пристроить за него дочку, и что Андашевский женился для той же цели на этой старой кокетке!» [30, с. 472]. Андашевский бросил любовницу и женился на дочери начальника не без корыстных намерений: «приискал в невесты какую-нибудь другую дуру с огромным состоянием или с большими связями» [30, с. 436]. После женитьбы Андашевский настраивает супругу против отца с тем, чтобы «по-родственному» занять служебное место своего благодетеля. Сам Зыров уличает дочь в ее недостойном желании: «Тебе хочется спихнуть меня с моего места и посадить на него твоего мужа…» [30, с. 492].
Набойкин – «двойник» Клаверова, наблюдавший унижение того князем, – возможно, больше всех заинтересован в «падении шефа» [40, с. 24]. Несмотря на благополучный для Клаверова исход конфликта с Бобыревым, его авторитет поколебался и положение оказывается непрочным: жена Бобырева может ему отомстить, Набойкин удостоверился в уязвимости Клаверова. Сам он убедился в том, что окружен презирающим его обществом. Положение Андашевского напоминает ситуацию, в которой оказался Клаверов: герой Писемского поторопился объявить подчиненным о своем переходе на место Зырова, которое, как выяснится позднее, он так и не займет. Поспешил Андашевский и с объявлением о назначении подчиненных на новые места. Несмотря на отсутствие указания на реакцию чиновников на фиаско Андашевского, с большой долей уверенности можно предположить, что его авторитет пошатнулся в глазах его подчиненных.
Тараканов и Клара – внесценические образы, играющие важную роль в действии пьесы, они – «тени», по воле которых отдаются распоряжения, от них зависит положение остальных чиновников. Салтыков-Щедрин предпринимает оригинальный ход: придает внесценическим персонажам значимость главных действующих лиц [33, с. 212]. В «Хищниках» влиятельный князь Михайло Семеныч также является внесценическим персонажем, определяющим чиновников к местам: он устраивает жестокого Варнуху на службу к Андашевскому, покровительствует камергеру Мямлину – своему племяннику, назначает Каргу-Короваева на место графа Зырова. Можно предположить, что косвенное влияние на политику определения чиновников к местам имеет и внесценическая madame Бобрина, на вечерах которой обсуждаются сплетни относительно кадровых перестановок. В «Хищниках», помимо внесценических персонажей, активную роль в интриге играет женщина, Ольга Петровна Басаева, и это подтверждает наблюдение А. И. Журавлевой о том, что в драматургии Писемского женщина «оказывается втянута в дело» [10, с. 136]. Подобно тому, как Клара в «Тенях» стремится определить в кабинет Клаверова Нарукавникова, поскольку его отец «заплатил деньги и большой приятель Клары» [34, с. 351], Ольга Петровна, будучи дочерью влиятельного графа Зырова, а также супругой Андашевского, оказывает на них влияние при распределении чиновничьих мест. Именно она повлияла на решение отца назначить Мямлина на освободившееся место Андашевского («И ты, папа, определи его непременно!» [30, с. 456]), выбрать Янтарного на место Вуланда. Наконец, непомерные аппетиты Ольги Петровны простираются и на место отца, в чем она открыто признается ему: «Папа, я очень желаю, чтобы ты вышел в отставку и чтобы на твое место поступил муж» [30, с. 492].
«Тенями» в пьесе Салтыкова-Щедрина являются не только внесценические персонажи: Клаверов осознает, что Нарукавников как очередной претендент на чиновничье место – «такая же тень человеческая, как и все эти Набойкины, Бобыревы…» [34, с. 355]. В отличие от «сил» в «Деле» Сухово-Кобылина, обладающих настоящим влиянием, в «Тенях» чиновники являются «калифами на час» [14, с. 259]. Сам Клаверов это понимает: «Умрет ли старое, народится ли новое, где будет сила?» [34, с. 352]. Призрачно не только положение Клаверова, призрачно его окружение, призрачен карьеризм в Петербурге, призрачен и вообще государственный аппарат [14, с. 259]. В «Хищниках» бесконечная кадровая ротация также напоминает идею «теней»: положение чиновников зыбко, неопределенно. Судьба Андашевского туманна, из разговора с влиятельным князем так и остается неизвестным, будет ли назначен Андашевский на место графа. Призрачно служебное положение и остальных чиновников, поскольку пришедший на место Зырова Карга-Короваев, по словам Андашевского, «примется нами созданное учреждение ломать и перестраивать по-своему…» [30, с. 480]. Непрочность положения подчеркивается автоматизмом жизненного пути: Бобырев повторяет путь Клаверова, жена Бобырева – путь Клары, Клаверов – путь старого князя [33, с. 214]. В «Хищниках» Андашевский повторяет путь Янсона, Мямлин – путь Андашевского, Янтарный – путь Вуланда.
Бобырев и Клаверов в «Тенях» наделены способностью к рефлексии [40, с. 20–21]. Наедине с собой каждый из персонажей произносит саморазоблачительные монологи, ретардирующие действие пьесы [6, с. 194]. Бобырев: «Кажется, и чиновники-то все указывают на тебя пальцами, как проходишь сквозь эти нравственные мытарства, кажется, нет того существа в мире, чье лицо так и не говорило бы тебе в глаза: срамец! срамец! срамец!» [34, с. 375]. Клаверов: «Ведь я дрянь, я сам выскочил в люди по милости женщин вольного обращения! Ведь это ни для кого не тайна! <…> ведь не могу же я скрыть от себя, что я лакей, что я держусь именно потому, что я лакей!» [34, с. 355]. В отличие от персонажей «Теней», действующие лица «Дела» не рефлексируют [17, с. 269]. Писемский-драматург редко прибегает к монологической структуре высказывания героев [22, с. 15]: эта тенденция наблюдается и в «Хищниках», где отсутствуют монологи-саморазоблачения.
Подобно тому, как все персонажи «Смерти Тарелкина» равны «своей бесчеловечностью» [18, с. 546], в «Хищниках» все чиновники также уравнены –желанием во что бы то ни стало подняться по карьерной лестнице. В отличие от «Дела», где развернут конфликт между бюрократией и ее жертвами, в «Смерти Тарелкина» осуществляется «обличение зла устами представителя этого зла» [19, с. 240]. Подобная стратегия проявляется и в «Хищниках»: подлых чиновников обличает не менее бесчестный директор Вуланд, согласно характеристике Зырова, – «очень умный, опытный, но грубый, упрямый и, по временам, пьяный немец» [30, с. 454]. Тарелкин, персонаж двух пьес Сухово-Кобылина, подло изворотлив в «деле» Лидочки, но все же за все свои усилия в финале «Дела» он «получает лишь обглоданную кость» [5, с. 28]. Вуланд, подобно Тарелкину, также оказывается обойден: ему предпочитают Андашевского, хотя Вуланд старше соперника и «раньше его получил тайного советника» [30, с. 426]. Оскорбленный Вуланд злится не только на Андашевского, но и на остальных чиновников – Варнуху и Мямлина: «…в службе только еще и осталось одно это наслаждение, что подобным скотам можешь ногу подставить!» [30, с. 432]. Тарелкин и Вуланд собирают компрометирующие чиновников (Варравина и Андашевского) документы: Тарелкин держит у себя «всю варравинскую интимнейшую переписку» [37, с. 229], Вуланд подает графу «письмо Сониной и записку Андашевского» [30, с. 467], изобличающие новоиспеченного товарища во взяточничестве. Оба персонажа не в силах обратить ход событий в свою пользу: в «Смерти Тарелкина» измученный жаждой Тарелкин возвращает Варравину документы в обмен на стакан воды, в «Хищниках» граф Зыров «рвет письмо и записку» [там же].
В комедии Островского персонажи добиваются «доходного места»: Белогубов просит Юсова сделать его «столоначальником-с» [27, с. 44], Жадов предлагает дяде свою кандидатуру на место «ваканции» [27, с. 53], Кукушкина выступает «просительницей» [27, с. 62] перед Юсовым за место столоначальника для Белогубова, Полина заставляет Жадова просить «такое же место, как у Белогубова» [27, с. 97]. В «Тенях» Клаверов отмечает «неистовую погоню за местами» [34, с. 364], составляющую «главный, если не единственный, жизненный интерес нашей администрации» [там же]. В «Хищниках» жена Вуланда советует мужу: «…проси у графа какой-нибудь высшей себе должности!..» [30, с. 426], князь Янтарный «сам просился» [30, с. 453] на место Андашевского. Дочь графа Зырова просит отца определить Мямлина «на освободившееся место Андашевского» [30, с. 455], она же принимает участие в определении Янтарного «на место господина Вуланда» [30, с. 470]. В анализируемых пьесах Островского, Салтыкова-Щедрина и Писемского резкой критике подвергается протекционизм. Так, Юсов («Доходное место») занят подбором претендентов на замещение должностей, ориентируясь на собственный интерес. В «Тенях» Бобырев осознает, что в Петербурге «все именно вертится на личных отношениях. <…> одно искание места чего стоило!» [34, с. 375]. В «Хищниках» в уста Вуланда вложена фраза: «…в России в службе все делается по протекции» [30, с. 428]. Однако в «Тенях» и «Хищниках» получение чиновниками определенного места не является конечной целью их устремлений: для Клаверова пребывание на значительном месте – «не больше как станция, на которой он желает пробыть как можно менее времени» [34, с. 338], Янтарный говорит о своем назначении так: «…это место для меня пока, но что со временем я могу занять и большее» [30, с. 470] (курсив А. Ф. Писемского. – Н. К.).
Отличительной чертой эпохи, отразившейся в русской комедии середины XIX в., явилось «всесилие власти денег, хищничество, приобретательство» [4, с. 21]. При реализации этого мотива Островский прибегает в пьесах к характерному гротескному приему, заключающемуся в «зоологизации» образа. Так, в «Доходном месте» Вышневский и Юсов с помощью подтекста гротескно уподобляются «хищникам» [3, с. 130]. «Возьми так, чтобы и проситель был не обижен, и чтобы ты был доволен. <…> живи так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы» [27, с. 77], – убеждает собеседника Юсов, и этот его принцип разделяют представители бюрократической верхушки. Юсов воплощает «цинично-хищническую философию матерого царского чиновничества» [33, с. 94]. В «Деле» бюрократическая машина является носителем «хищничества и обмана» [18, с. 541]. Так, важное лицо «на службе зверь» [37, с. 125], Иван Сидоров называет чиновников «волками-сыромахами» [37, с. 141], Крека – «капитальнейшей бестией» [37, с. 142], чиновников – «племенем обильным и хищным» [37, с. 143]. В «Смерти Тарелкина» изображена «борьба хищников между собой» [10, с. 153]. Тарелкин называет начальников «рыкающими зверями» [37, с. 228], Варравина – «крокодилом» [37, с. 239]; Варравин, в свою очередь, аттестует Тарелкина «самой бездельной и беспокойной тварью» [37, с. 235], «самой ядовитой и злоносной гадиной» [там же]. Е. Л. Зайцева, обращаясь к романам Писемского, замечает, что при создании образов персонажей для него характерно употребление зооморфных сравнений [11, с. 11]. Это свойство ярко воплотилось и в комедии «Хищники»: уже ее название обеспечивает зооморфные коннотации в характеристике чиновников. Эпиграф к комедии («Лошадь волки съели, да санями подавились» [30, с. 425]) предуведомляет об итогах неудавшихся «подкопов» Андашевского и его сторонников против Зырова. В ремарках высокую частотность получает указание на проявление «хищничества» в поведении чиновничьей братии: «каким-то тигром рассвирепелым» [30, с. 432], «бешеным голосом» [30, с. 449], «с едва сдерживаемым бешенством [30, с. 465], «в ужасе и бешенстве» [30, с. 493]. Андашевский называет князя «старым волком» [30, с. 479], а о себе говорит: «…Прозевай хоть одну минуту, из-под носу утащат лакомый кусок» [30, с. 482]. Сходную мысль выражает граф Зыров: «Только пасть свою удовлетворить вы желали, хищники ненасытные!..<…> ты (дочь Зырова. – Н. К.) всегда была волчицей честолюбивой» [30, с. 497].
Вследствие ощутимого влияния гоголевской традиции в русской комедии второй половины XIX века формируется такое качество, как «безгеройность» [8, с. 28]: положительных персонажей либо нет вовсе, либо они не отличаются жизненной и художественной убедительностью [4, с. 68]. В «Доходном месте» Вышневскому, Юсову и Белогубову противопоставлены Жадов, Досужев и Мыкин. В отличие от Жадова, двое последних сопротивляются бюрократии пассивно [33, с. 94–95]. Образ Жадова не является исключительно позитивным и допускает различные интерпретации: Жадов – честный добродетельный чиновник; Жадов – сатирически изображенный чиновник, в образе которого обличаются «фразерство и прекраснодушие» [19, с. 198–199]. Существует и его нейтральное истолкование: Островский задумывал Жадова как положительного персонажа, но для того, чтобы не идти вразрез с жизненной правдой, вынужден был изобразить его падение. В «Тенях» позитивный потенциал содержится в образе Бобырева, но после его «бунта на коленях» положительными воспринимаются лишь контурно обрисованные внесценические лица (Секирин и Шалимов) [33, с. 214]. В системе персонажей «Дела» противопоставлены бездушные чиновники и их жертвы, причем не все представители чиновничьей среды воплощают отрицательное начало. Так, Шило напоминает Жадова попыткой противостояния «темному варравинскому царству» [5, с. 29], но в то же время он малоубедителен в роли положительного героя; Омега в силу своего добродушия и честности не занимает высокой должности. «Смерть Тарелкина» вовсе лишена положительных персонажей [5, с. 39]. Попытка усмотреть в «Хищниках» в образах Зырова, Сониной [24, с. 169], внесценического Карги-Короваева [24, с. 170] позитивное начало вряд ли состоятельна: в комедии Писемского, как и в «Смерти Тарелкина», оно не персонифицировано ни в сценических, ни во внесценических лицах и реализовано в авторской позиции.
В отличие от гоголевских персонажей, некоторым героям пьес Островского присуща способность вызывать сочувствие [19, с. 29]. Жадов, как бы ни были иллюзорны его представления о жизни, все же пробуждает сочувствие автора и читателей [10, с. 149]. В «Тенях» Салтыкова-Щедрина образ Софьи Александровны далек от идеала, но в то же время она возвышается над прогнившей средой [14, с. 265]. Ее положение в финале исполнено драматизма, поскольку она по-настоящему любила Клаверова. В «Деле» Сухово-Кобылина глубокое сострадание вызывает трагедия Муромских, однако в «Смерти Тарелкина» уже нет героев, способных возбудить в читателях/зрителях сочувствие. Даже отношение к жертвам чиновников (дворник Пахомов, купец Попугайчиков, прачка Брандахлыстова, помещик Чванкин) окрашено авторским гневом [19, с. 241]. Несмотря на то, что в «Хищниках» умирает Вуланд и судьба Сониной складывается драматично, эти обстоятельства не рождают сочувствия к персонажам. Связано это с тем, что директор Вуланд олицетворяет хищный и зловещий чиновничий мир, а глуповатая Сонина предает своего любовника еще до того, как узнает, что тот бросает ее: под напором жены Вуланда она признает правдивость газетной статьи, обличающей Андашевского во взяточничестве.
При сопоставлении пьес немаловажно обратиться к поэтике их финалов. Несмотря на то, что в развязке «Доходного места» становится известно о судебном преследовании Вышневского, все же эта мера не способна исправить порочную бюрократическую сферу [3, с. 151]. Нечего опасаться разбирательств только честному человеку, поэтому для Жадова обстоятельства складываются благополучно. В комедиях Островского зачастую встречаются драматические ситуации, разрешающиеся неожиданным ходом событий, что подтверждает идею жизнеутверждающего начала в поэтике драматурга [21, с. 72]. Писемский же отрицал возможность оптимистического исхода, о чем свидетельствует его протест против пятого действия «Доходного места»: Жадов, по мнению Писемского, «не должен был бы выйти победителем, а должен был бы пасть. Смысл комедии был бы, по-моему, многозначительнее и глубже…» [29, с. 109]. В финале «Теней» нет победы добродетели, хотя Клаверов унижен и «морально раздавлен» [40, с. 26]. «Дело» завершается «торжеством зла» [20, с. 480]. В «Смерти Тарелкина» отсутствует изображение жизни как «изменяющейся к лучшему» [17, с. 274]. В финале «Хищников» также нет победы благих начал, хотя формально персонажи наказаны: Андашевский и его сторонники не получают повышения по службе. Несмотря на то, что Карга-Короваев, по мнению карьериста Андашевского, «упрям, как вол; <…> умен, каналья» [30, с. 480], вряд ли ему удастся что-то исправить, устранить «подкопы», истребить лицемерие и низкопоклонство. Неверие автора в благотворное влияние новых порядков Карги-Короваева подчеркивается кольцевой композицией комедии: в начале и в финале «Хищников» появляется новость о назначении на должность, что акцентирует внимание на бессмысленной карьерной ротации и неистребимости «подкопов» в чиновничьем мире. Торжества добродетели в «Хищниках» нет вследствие отсутствия положительного героя и «светлых» мотивов, примиряющих с реальностью [22, с. 24].
Русским пьесам второй половины XIX века присущ синтез разнообразных жанровых черт, поскольку именно он адекватно отражает «драматизм жизни русского общества» [14, с. 16]. Так, присутствие в большинстве комедий Островского, в отличие от пьес Гоголя, положительных персонажей, было чертой, сближающей его комедии с драмой [42, с. 393]. В «Тенях» также объединены элементы комедии и драмы: в финале остро переживаемое разочарование Софьи Александровны обеспечивает трансформацию жанра пьесы из политической комедии в драматическую сатиру [40, с. 27]. Стоит отметить, что в «Тенях» и сами персонажи упоминают разнообразные жанровые определения: «мерзкая комедия» [34, с. 406], «какой-то проклятый водевиль, к которому странным образом примешалась отвратительная трагедия» [34, с. 401]. Трилогия Сухово-Кобылина, несмотря на то что жанры пьес, ее составляющих, обозначены самим автором (комедия, драма, комедия-шутка), демонстрирует «отсутствие границ между жанрами» [28, с. 115]. Гибель Муромского в «Деле» побуждает драматурга определить жанр пьесы как драму, между тем ее идея, заключающаяся в обличении бесчеловечной бюрократической машины, релевантна сатирической комедии [10, с. 153]. «Смерть Тарелкина» относится к синтетическому жанру: исследователи и критики обнаруживают в пьесе «гротескную комедию», «драматическую сатиру», «памфлет-шутку», «сатирический водевиль» [2, с. 253–254]. Зыбкость жанровой идентификации присуща и поздней комедиографии Писемского. Симптоматично, что, выявляя жанровый статус пьес Писемского 1870-х гг. (среди которых две комедии – «Хищники» и «Финансовый гений»), А. И. Журавлева, несмотря на столь разнообразные жанровые определения, данные ею же самой («невеселые, страшноватые комедии, ироническая драма, жалкая трагедия» [9, с. 595]), в итоге называет их драмами [10, с. 134].
Отдельного внимания заслуживает реализация в рассматриваемых пьесах основных приемов комического преувеличения – гиперболы и гротеска. Гротеск в драматургии Островского не выходит на первый план [3, с. 130]. В «Доходном месте» в образе Белогубова Островским гиперболизируются чинопочитание, подхалимство [4, с. 54–55]. Белогубов не находит низостью желание поцеловать руку начальника: он бросается к Юсову, но тот, согласно ремарке, «прячет руки» [27, с. 75]. Несмотря на широкое использование Салтыковым-Щедриным гротеска в прозе, в драматургии писатель его избегает и тяготеет к правдоподобию [20, с. 475]. Драматургия Сухово-Кобылина, напротив, уникальна в силу объединения гротескных образов и фарсового комизма [20, с. 480]. Так, в «Деле» представлен ряд гротескных сцен, отражающих нелепость бюрократии: забрасывание чиновниками Варравина бумагами на подпись в конце III действия, спор Варравина с Живцом в V действии, разговоры Варравина и Тарелкина во II и V действиях и т. д. «Смерть Тарелкина» содержит множество гротескных эпизодов, обличающих безумную сущность канцелярий и зверство уподобляющихся «упырям» чиновников. Творческая система Писемского допускает карикатурность, гиперболизацию, но ей совершенно чужды как фантастика, так и «гротесковая деформация» [25, с. 629]. Если гротеск в драматургии Островского не занимает ведущих позиций, то в комедиях Писемского он и вовсе отсутствует. Так, в «Хищниках» гиперболизирован образ камергера Мямлина: «плешивый господин, с женской почти физиономией и с необыкновенно толстым задом» [30, с. 428], которого «корчит и кобенит» [30, с. 456] болезнь. Подобно Белогубову у Островского, Мямлин «кидается к графу и хватает его руку, чтобы поцеловать ее» [30, с. 458], но граф, как и начальник Белогубова, не дает ему руки. Чуждость гротеска для творческой системы Писемского связана с центральным понятием в эстетике автора – категорией правды.
ВЫВОДЫ
Комедия А. Ф. Писемского «Хищники» была создана позже классических пьес его современников о чиновниках – «Доходного места» А. Н. Островского, «Теней» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Дела» и «Смерти Тарелкина» А. В. Сухово-Кобылина. Между тем, «Хищников» с этими пьесами объединяют острота общественной проблематики, сходные принципы изображения петербургской высшей бюрократии, карьеризма и взяточничества чиновников, зыбкость жанровой идентификации. Во всех пьесах, за исключением «Теней», продуктивен прием зоологизации образов чиновников. В комедии Писемского, как и в «Доходном месте», «Деле» и «Смерти Тарелкина», обнаруживаются переклички на уровне персонажной системы и способов создания образов чиновников. Большее сходство мотивов и сюжетных ходов наблюдается при сопоставлении «Хищников» с «Тенями»: в действии обеих пьес значимы успешная карьера молодых чиновников, покровительство женщин, утрата авторитета начальников в глазах подчиненных, непрочность положения героев на карьерной лестнице, наличие внесценических влиятельных персонажей («теней»). Однако, в отличие от «Теней», в «Хищниках» отсутствует способность чиновников к рефлексии, что проявляется в отказе Писемского от «уединенных» монологов.
Несмотря на то, что русской комедией второй половины XIX в. была востребована гоголевская концепция «безгеройности», все же в «Доходном месте», «Тенях» и «Деле» есть сценические или внесценические персонажи, вызывающие сочувствие. Комедия «Хищники», подобно «Смерти Тарелкина», лишена положительных действующих лиц (в том числе внесценических), а также вызывающих сострадание героев. В отличие от «Смерти Тарелкина», художественный мир «Хищников» лишен гротескной деформации. Финалы рассматриваемых пьес, за исключением «Доходного места», исключают торжество добродетели. Если в финалах двух последних пьес трилогии Сухово-Кобылина порочные персонажи не наказаны, то в «Доходном месте», «Тенях» и «Хищниках» их наказание формально, тем самым транслируется мысль о неистребимости порочного общественного уклада.
Таким образом, в поэтике комедии А. Ф. Писемского «Хищники» наблюдается не только творческое развитие магистральных особенностей пьес второй половины XIX в. о чиновниках, но и их оригинальное преломление, что обнажает, с одной стороны, общность идейно-художественных исканий русских драматургов этого периода, наличие типологических связей между их произведениями, а с другой – самобытный характер комедиографии Писемского.
Перспективы исследования связаны с изучением комедий А. Ф. Писемского в контексте русской комедиографии второй половины XIX в.
References
- Aleksandrova I. V., Kazaryan N. S. Pozdnie komedii A. F. Pisemskogo v dialoge s russkoi komediinoi traditsiei XVIII veka [A. F. Pisemsky’s late comedies in the dialogue with the Russian comedy tradition of the 18th century]. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, 2024, Vol. 17, issue 5, pp. 1451–1457.
- Analiz dramaticheskogo proizvedeniya: Mezhvuz. sb. LGU im. A. A. Zhdanova [Analysis of a dramatic work: Interuniversity collection of Leningrad State University named after A. Zhdanov]. Ed. by V. M. Markovich. Leningrad, LGU Publ., 1988. 366 p.
- N. Ostrovskii. Entsiklopediya [A. N. Ostrovsky. Encyclopedia]. Chief editor and comp. I. A. Ovchinina. Kostroma, Kostromaizdat Publ., Shuya, FGBOU VPO ShGPU Publ., 2012. 657 p.
- Bradis L. V. Konflikty i kharaktery v russkoi komedii serediny XIX veka [Conflicts and characters in Russian comedy of the mid-19th century]. Kalinin, KGU , 1979. 84 p.
- Glikman I. D. V. Sukhovo-Kobylin i ego trilogiya [A. V. Sukhovo-Kobylin and his trilogy]. A. V. Sukhovo-Kobylin. Trilogiya: Svadba Krechinskogo. Delo. Smert Tarelkina.. Moscow, Leningrad, GIKHL Publ., 1959, pp. 3–42.
- Goryachkina M. S., Lavretskii A. Saltykov-Shchedrin. Istoriya russkoi literatury: v 10 t., Т. 9 [Saltykov-Shchedrin. The History of Russian literature in 10 volumes, vol. 9]. Moscow, Leningrad, Akademii nauk SSSR , 1956, pp. 159–274.
- Ermolaeva N. L. N. Ostrovskii, A. F. Pisemskii i A. A Potekhin. Tvorcheskie pereklichki [A. N. Ostrovsky, A. F. Pisemsky and A. A. Potekhin. Creative roll calls]. Sotsiokulturnoe prostranstvo Ivanovskogo kraya: proshloe, nastoyashchee, budushchee: Sb. statei, materialov, esse. Ivanovo, Ivanovskii gos. un-t Publ., 2018, pp. 42–53.
- Zhuravleva A. I. N. Ostrovskii-komediograf [A. N. Ostrovsky-comedian]. Moscow, MSU Publ., 1981. 216 p.
- Zhuravleva A. I. Kommentarii [Comments]. Pisemskii A. F. Sobranie sochinenii: v 5 t. Vol. 2. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1982, pp. 582–605.
- Zhuravleva A. I. Russkaya drama i literaturnyi protsess XIX veka [Russian drama and the literary process of the 19th century]. Moscow, MSU Publ., 1988. 198 p.
- Zaitseva E. L. Poyetika psikhologizma v romanakh A. F. Pisemskogo: Avtoref. diss. … kand. filol. nauk [The poetics of psychologism in the novels of A. F. Pisemsky. Abstract of thesis]. Moscow, 2008. 18 p.
- Zubkov K. Yu. «Molodaya redaktsiya» zhurnala «Moskvityanin»: Estetika. Poetika. Polemika [The «Young editorial board» of the «Moskvityanin» magazine: Aesthetics. Controversy]. Moscow, Biosfera Publ., 2012. 212 p.
- Zubkov K. Yu. Roman A. F. Pisemskogo «Tysyacha dush» i p’esy o chinovnikakh vtoroi poloviny 1850-kh godov [F. Pisemsky’s novel «A Thousand Souls» and plays about officials of the second half of the 1850s]. Russkaya literatura, 2009, no. 4, pp. 95–106.
- Istoriya russkoi dramaturgii. Vtoraya polovina XIX – nachalo XX veka (do 1917 g.). [The history of Russian drama. The second half of the 19th – the beginning of the 20th century (until 1917)]. Leningrad, Nauka Publ., 1987. 658 p.
- Kazaryan N. S. Komedii A. F. Pisemskogo v dialoge s natsional’noi zhanrovoi traditsiei XVIII veka [The comedies of F. Pisemsky in dialogue with the national genre tradition of the XVIII century]. Uchenye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Filologicheskie nauki, 2024, Vol. 10 (76), no. 4, pp. 107–123.
- Kazaryan N. S. Rannie komedii A. F. Pisemskogo v kontekste komediinoi traditsii N. V. Gogolya [The early comedies of A. F. Pisemsky in the context of the N. V. Gogol’s comedy tradition]. Uchenye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Filologicheskie nauki, 2023, Vol. 9 (75), no. 3, pp. 14–29.
- Kalmanovskii E. S. Dramaticheskiye proizvedeniia A. V. Sukhovo-Kobylina i russkaya literatura 1850–1860-kh godov [Dramatic works by V. Sukhovo-Kobylin and Russian literature of the 1850s and 1860s]. A. V. Sukhovo-Kobylin. Kartiny proshedshego. Leningrad, Nauka Publ., 1989, pp. 243–283.
- Lotman L. M. V. Sukhovo-Kobylin [A. V. Sukhovo-Kobylin]. Istoriya russkoi literatury. Rastsvet realizma. In 4 volumes. Vol. 3, Leningrad, Nauka Publ., 1982, pp. 528–548.
- Lotman L. M. N. Ostrovskii i russkaya dramaturgiya ego vremeni [A. N. Ostrovsky and the Russian drama of his time]. Moscow, Leningrad, Izdatelstvo Akademii nauk SSSR Publ., 1961. 360 p.
- Lotman L. M. Dramaturgiya 60–70-kh godov [Drama of the 60s and 70s]. Istoriya russkoi literatury. Rastsvet realizma. In 4 volumes. 3, Leningrad, Nauka Publ., 1982, pp. 446–494.
- Lotman L. M. Ostrovskii i dramaturgiya vtoroi poloviny XIX v. [Ostrovsky and the drama of the second half of the 19th century]. Istoriya vsemirnoi literatury. In 9 volumes. 7, Moscow, Nauka Publ., 1991, pp. 62–75.
- Man’kova L. V. F. Pisemskii-dramaturg: Avtoref. diss. … kand. filol. nauk [A. F. Pisemsky-playwright. Abstract of thesis]. Moscow, 1986. 26 p.
- Mirskii D. S. Sukhovo-Kobylin, Pisemskii i malye dramaturgi [Sukhovo-Kobylin, Pisemsky and the small playwrights]. Istoriya russkoi literatury s drevnejshikh vremen po 1925 god. London, Overseas Publications Interchange Ltd Publ., 1992, pp. 382–
- Mogilyanskii A. P. Tsenzurnaya istoriya p’esy Pisemskogo «Khishchniki» [The censorship history of Pisemsky’s play «Predators»]. Russkaya literatura, 1965, no. 2, pp. 167–172.
- Myslyakov V. A. F. Pisemskii [A. F. Pisemsky]. Russkie pisateli 11–20 vv. 1800–1917: Biograficheskii slovar’, Moscow, Fianit Publ., 1999, pp. 622–630.
- Myslyakov V. A. Saltykov-Shchedrin o Pisemskom [Saltykov-Shchedrin about Pisemsky]. Russkaya literatura, 1971, no. 4, pp. 90–98.
- Ostrovskii A. N. Polnoe sobranie sochinenii: v 12 t., T. 2. P’esy (1856–1866) [Complete works in 12 volumes, vol. 2. Plays (1856–1866)]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1974. 806
- Penskaya E. N. Sintez zhanrov v dramaticheskoi trilogii A. V. Sukhovo-Kobylina «Kartiny proshedshego» [Synthesis of genres in V. Sukhovo-Kobylin’s dramatic trilogy «Pictures of the Past»]. Bulletin of Tomsk State University. Philology, 2016, no. 6, pp. 112–127.
- Pisemskii A. F. Pis’ma [Letters]. Moscow, Leningrad, Akademii nauk SSSR , 1936. 925 p.
- Pisemskii A. F. Sobranie sochinenii: v 5 t. T. 2 [Collected works in 5 volumes. Vol. 2]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 604 p.
- Roshal’ A. A. Iz nablyudenii nad tvorcheskoi istoriei romana A. F. Pisemskogo «Masony» [From observations on the creative history of F. Pisemsky’s novel «The Masons»]. Russkaya literatura, 1963, no. 1, pp. 180–184.
- Russkaya drama epokhi A. N. Ostrovskogo [Russian drama of the era of N. Ostrovsky]. Ed. by A. I. Zhuravleva. Moscow, MSU Publ., 1984. 464 p.
- Russkie dramaturgi XVIII-XIX vv.: monograficheskie ocherki v 3 t., T. 3 [Russian playwrights of the 18th –19th centuries: monographic essays in 3 vol. Vol. 3]. Leningrad, Moscow, Iskusstvo Publ., 1962. 463 p.
- Saltykov-Shchedrin M. E. Sobranie sochinenii: v 20 t. T. 4 [Collected works in 20 volumes. Vol. 4]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 610 p.
- Saltykov-Shchedrin M. E. Sobranie sochinenii: v 20 t. T. 5 [Collected works in 20 volumes. Vol. 5]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 711 p.
- Saltykov-Shchedrin M. E. Sobranie sochinenii: v 20 t. T. 20 [Collected works in 20 volumes. Vol. 20]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 622 p.
- Sukhovo-Kobylin A. V. Trilogiya: Svad’ba Krechinskogo. Delo. Smert’ Tarelkina [Trilogy: Krechinsky’s A business. Death of Tarelkin]. Moscow, Leningrad, GIKHL Publ., 1959. 307 p.
- Timashova O. V. Komediya «Razdel» (1853) v dramaturgicheskoi sisteme rannego A. F. Pisemskogo i v kontekste zhurnala «Sovremennik» [The comedy «Section» (1853) in the dramaturgical system of the early A. F. Pisemsky and in the context of the journal «Sovremennik»]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Povolzhskii region. Gumanitarnye nauki. Filologiya, 2014, no. 4 (32), pp. 140–149.
- Timashova O. V. A. Katenin i A. F. Pisemskii. Preemstvennye svyazi i polemika [P. A. Katenin and A. F. Pisemsky. Succession ties and controversy]. Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya Filologiya. Zhurnalistika, 2018, issue 1, pp. 56–59.
- Tunimanov V. A. Dramaturgiya M. E. Saltykova-Shchedrina [Dramaturgy by E. Saltykov-Shchedrin]. M. E. Saltykov-Shchedrin. Komedii i dramaticheskaya satira, Leningrad, Iskusstvo Publ., 1991, pp. 3–36.
- Shtein A. L. Kriticheskii realizm i russkaya drama XIX veka [Critical Realism and Russian drama of the 19th century]. Moscow, Goslitizdat Publ., 1962. 398 p.
- Shtein A. L. Master russkoi dramy: Etyudy o tvorchestve Ostrovskogo [The Master of Russian Drama: Studies on Ostrovsky’s work]. Moscow, Sovetskii pisatel’ Publ., 1973. 432 p.