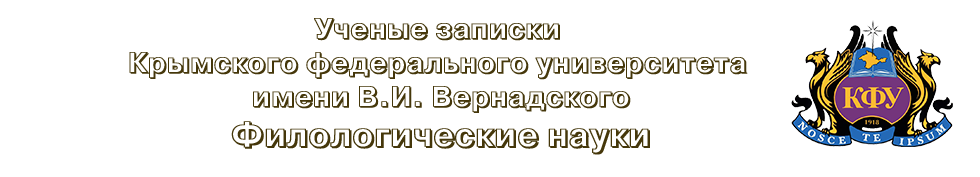BARON DE BAZANCOURT: LITERATOR, HISTORIAN, MILITARY CORRESPONDENT. PART VIII. “LE MONTAGNARD…” VS “ANGE PITOU”
JOURNAL: «Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philological sciences», Volume 11 (77), № 3, 2025
Publication text (PDF): Download
UDK: 82-94
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:
Orekhov V. V., V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation
TYPE: Article
DOI: https://10.29039/2413-1679-2025-11-3-109-128
PAGES: from 109 to 128
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: Baron de Bazancourt, Montagnard, A. Dumas, The Great French Revolution, 1793, Ange Pitou.
ABSTRACT (ENGLISH): Baron de Bazancourt’s novel “Montagnard, or The Two Republics: 1793–1848 (1850–1851)” was one of the first large-scale artistic treatments of the events of the French Revolution. The text was created amidst political struggle and pursued ideological goals. Meanwhile, the author was forced to draw material from the works of historians whose conclusions contradicted Bazancourt’s own ideological principles. This article analyzes Bazancourt’s methods of interpreting historical facts in accordance with the ideological vector set forth in the novel. The creative solutions in Bazancourt’s novel are examined in comparison with the updated artistic tactics of A. Dumas, embodied in the novel “Ange Pitou”, which also tells the story of the French Revolution and was written simultaneously with Bazancourt’s “Montagnard”.
ВВЕДЕНИЕ
В условиях политической борьбы, развернувшейся во Франции после революции 1848 г., барон де Базанкур сотрудничал с монархической газетой «L’Assemblée nationale» и, что называется, поставил свое перо на службу политической целесообразности. Используя опыт создания авантюрно-исторических романов, писатель опубликовал в этой газете объемный двухчастный роман-фельетон «Монтаньяр, или Две республики. 1793 год – 1848 год» (1850–1851).
Первая часть романа посвящена эпохе Великой французской революции и не оставляет сомнений, что создавалась с целью демонизации Второй республики и республиканской идеи в целом: описывая террор 1793 г., автор проводил мысль, что Великая революция была навязана стране горсткой корыстных мятежников, и таким образом подсказывал читателю негативную историческую параллель для оценки революции 1848 г. и Второй республики [6, c. 117].
Хотя барон де Базанкур был одним из первых романистов, взявшихся за создание объемного сочинения о событиях Великой французской революции, что, казалось бы, открывало перед ним исключительную свободу исторических интерпретаций, это не вполне так. Во Франции уже сложилась определенная традиция в осмыслении Великой революции. Прежде всего, следует учитывать исторические труды А. Тьера, Ф.-О. Минье, Ж. Мишле, А. де Ламартина, Л. Блана, имевшие широкую известность и демонстрировавшие закономерность и неизбежность революции, вызванной пороками обветшавшей монархии. Кроме того, в художественной литературе уже появились «Шуаны» (1829) О. де Бальзака, «Мопра» (1837) Жорж Санд, «Шевалье де Мезон-Руж» (1845–1846), «Джузеппе Бальзамо» (1846–1848), «Ожерелье королевы» (1848–1850) А. Дюма, которые, пусть не воссоздавали панораму революционных событий, все же касались их стороной и вели к тем же выводам, что и труды историков: революция – результат несостоятельности феодализма и монархии. То есть традиция в оценках Великой французской революции противоречила идеологическим целям Базанкура, и перед ним возникала нетривиальная задача – черпать фактический материал для романа из сочинений историков, но интерпретировать этот материал противоположным образом, нежели предшественники. Для нас чрезвычайно важно понять, какую тактику при этом избрал барон де Базанкур, поскольку тогда мы сможем судить об отношении к историческому факту романиста-Базанкура, а это, в свою очередь, позволит косвенно судить о принципах Базанкура-историка, в частности, как историка Крымской войны.
Цель статьи – выявить приемы интерпретации исторических фактов в соответствии с заданным идеологическим вектором в первой части романа барона де Базанкура «Монтаньяр, или Две республики. 1793 год – 1848 год».
Рассмотрение заявленного вопроса приобретает драматизм, если творческие решения Базанкура рассматривать в сопоставлении с обновленной художественной тактикой А. Дюма. В декабре 1850 г., всего через три месяца после того, как завершилась публикация первой части базанкуровского «Монтаньяра…», А. Дюма начал печатать в «La Presse» роман «Анж Питу», повествующий о событиях 1789 г., то есть о начале Великой революции. Формально «Анж Питу» продолжал цикл «Записки врача», уже включавший в себя романы «Джузеппе Бальзамо» и «Ожерелье королевы», но фактически настолько отличался от них, что о его принадлежности к циклу можно было догадаться лишь по некоторым уже знакомым читателю персонажам.
И для Базанкура, и для Дюма обновление художественной манеры стало результатом изменившегося читательского запроса: прежние сюжетные «фигуры» авантюрно-исторических романов – манипулирование историческими данными, мелодраматизм, описание интриг и тайн – больше не привлекали публику; читатель ждал от исторического повествования подсказок для осмысления бурливой политической современности. Именно поэтому и Базанкур, и Дюма, по сути, «синхронно» обратились к эпохе Великой французской революции и оба стали модернизировать свои принципы художественного историзма; оба, но – по-разному, и эта разность показательна.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ
«Анж Питу»: новый герой и обновленный историзм
Поскольку о первой части «Монтаньяра…» мы уже говорили подробно в предыдущей статье [6], обратимся сначала к сочинению А. Дюма. Что отличало «Анжа Питу» от прежних романов из цикла «Записки врача»? Начнем с того, что главным героем выведен крестьянин, что для Дюма нехарактерно [5]. Но главное, что изменились и уровень осмысления истории, и стилистика, и в целом художественные акценты. Действие романа начинается в провинции, на севере Франции, в городке Виллер-Котре, где живет главный герой, семнадцатилетний Анж Питу.
Напомним, что и «Монтаньяр…» Базанкура начинается с колоритной зарисовки провинции [6, с. 103], но затем сюжет буквально рвется с места в галоп: мы видим главного героя, молодого южанина с характерной внешностью, скачущим верхом по равнине Прованса – все, как обычно бывает в зачинах приключенческих романов.
Дюма и сам неоднократно начинал романы в таком духе; точно так начинаются, скажем, «Три мушкетера», но – не «Анж Питу». Здесь повествование открывается колоритными и с явной заботой выписанными сценами из жизни городка Виллер-Котре, что составляет довольно значительный объем текста. В этих описаниях проглядывает лиризм, объясняющийся отчасти тем, что Дюма родился и вырос здесь же – в Виллер-Котре; так что начало романа «Анж Питу» во многом основано на детских и юношеских воспоминаниях автора [25, р. 115]. В этом легко убедиться, если прочесть первые главы «Мемуаров» Дюма, которые он начнет печатать в «La Press» через год, в декабре 1851 г.
Сюжет поначалу развивается с несвойственной для Дюма неторопливостью. Романист явно стремится увлечь читательское внимание не масштабом событий, а характерными приметами провинциальной психологии, которые передаются с доброй иронией и требуют обрисовки целой галереи персонажей. Отказываясь от романтизированных стилистических клише [3, с. 35], Дюма помогает аудитории прочно «вжиться» в атмосферу провинциальной жизни эпохи начала революции (завязка событий относится к июлю 1789 г.).
Еще одно значительное новшество для Дюма – образ главного героя. Во-первых, как было сказано, он простолюдин; во-вторых, его портрет и характер далеки от привычных «приключенческих параметров». Анж Питу (в отличие от базанкуровского Жоржа Монтаньяра и прежних героев самого Дюма) имеет неуклюжую внешность, по-деревенски простоват, искренне добродушен и лишен каких-либо исключительных амбиций. Между тем авторская симпатия принадлежит именно Анжу Питу, и дело не только в том, что он «земляк» романиста, но и в «социальной идентичности»: как известно, Дюма всегда акцентировал внимание на своей принадлежности к среднему сословию. Потому объяснимо, что в образе Жилибера (из «Джузеппе Бальзамо»), который вынужден пробивать себе дорогу трудолюбием и талантами, можно заметить автобиографические черты автора [41, р. 53]; ему ближе крестьянин Анж Питу, защищающий права человека, нежели аристократы, охраняющие «старый порядок».
Обратившись к жизни провинции, Дюма обретает возможность проследить истоки революционных настроений в третьем сословии. Как помним, в «Монтаньяре…» барона де Базанкура санкюлоты – это подонки общества, не способные жить трудом и воспринимающие революцию как повод для грабежа. Для Дюма, напротив, – это люди труда, постепенно сознающие свое право на справедливость. Он не идеализирует третье сословие. В романе много беззлобной иронии, когда изображаются наивные представления простолюдинов о задачах революции, о принципах справедливости, когда показывается столкновение этих наивных республиканских воззрений с принципами роялизма (как, например, в сцене спора между Анжем Питу и его бывшим учителем аббатом Фортье [1, т. 21, с. 508–521]).
Если барон де Базанкур показывал революцию глазами аристократа, то Дюма – глазами представителей третьего сословия, и с этой позиции протест против власти выглядел не просто справедливым, но и неизбежным. Барон де Базанкур избрал для изображения период террора, компрометирующего революцию; Дюма – период начальных этапов восстания, и благородные начальные побуждения борьбы позволяли писателю объяснить и реабилитировать революцию.
В какой-то момент, как это было и в «Монтаньяре…» Базанкура, действие романа «Анж Питу» переносится из провинции в кипящий Париж. Главный герой и его земляк-фермер папаша Бийо вовлечены в набирающее силу восстание. И тут мы отмечаем обновившееся отношение Дюма к историческому факту. В прежних романах цикла исторические факты служили интересам авантюрной интриги, а потому подгонялись под заданную автором хронологию и логику. Теперь же, напротив, в глаза бросается принципиальное стремление романиста следовать реальной хронологии событий: «уже и речи не может быть о нестыковках в датах» [5]. Вымышленные персонажи теперь нужны автору лишь для того, чтобы позволить читателю поприсутствовать вместе с тем или иным героем то при дворе в Версале, то на парижских улицах, то при взятии Бастилии.
Исторические события описываются так, как они освещены в исторических исследованиях и документах. Роман потребовал глубокого знакомства с историческими источниками и строгого следования им. Стив Сойер не без основания полагает, что наибольшее влияние на роман Дюма оказала «История французской революции» Мишле [40, р. 83]. Сам Дюма позднее, в 1862 г., в незавершенном романе «Волонтер девяносто второго года» делился, что изучал революционные события по сочинениям целого ряда историков и мемуаристов: «это аббат Жоржель, Лакретель, Тьер, Мишле, Луи Блан, г-жа Кампан, Вебер, Леонар, Бертран де Мольвиль, де Буйе, де Шуазёль, де Валори, де Мустье, де Гогела» [1, т. 24, с. 375]. Так или иначе, но подчинение романного повествования диктату исторического документа должно было представлять для писателя две трудности принципиального характера.
Во-первых, любовная интрига и авантюрный сюжет в таких условиях отодвигались на второй план, что могло бы угрожать увлекательности повествования. Однако реальные исторические события позволили автору создать столь напряженные и яркие картины, что они легко затмевали любую выдуманную историю.
Во-вторых, обращаясь к ключевым событиям революции, Дюма волей-неволей приходилось пересказывать многие эпизоды, уже известные читателям по историческим трудам, о которых мы говорили прежде [6, с. 106–112]. Причем некоторые такие эпизоды уже самими историками были пересказаны не единожды. Чтобы роман не превращался в пересказ общеизвестного, следовало подвергнуть исторический материал художественной обработке, но так, чтобы это не нарушало историческую достоверность.
Чтобы продемонстрировать, как Дюма справляется с этой задачей, обратимся к одному символичному эпизоду.
Как известно, 12 июля 1789 г. парижане, возмущенные отставкой министра Жака Неккера, массово вышли на улицы, что послужит началом восстанию. Парижанам противостояли заранее стянутые в столицу многочисленные наемные войска – швейцарцы и немцы. Возможность применения иностранной силы еще более возмутило толпу. Спусковым крючком послужило обращение к толпе Камиля Демулена, призвавшего к оружию и предложившего использовать в качестве кокарды для восставших древесный листок.
Процитируем описание этого момента в наиболее известных исторических сочинениях, которые могли быть знакомы читателям Дюма.
«История французской революции» (1823) А. Тьера:
«По Парижу пронесся слух, что Неккер отставлен <…>. Тревога распространяется по всему Парижу. Идут к Пале-Роялю. Молодой человек, с тех пор получивший известность как вдохновенный республиканец, рожденный с нежной, но кипучей душой, Камиль Демулен, взбирается на стол, показывает пистолеты, призывает к оружию, срывает древесный листок, из которого делает кокарду, и предлагает всем следовать его примеру. Деревья тут же обнажаются <…>» [43, t. 1, р. 95].
«История французской революции» (1824) Ф.-О. Минье:
«<…> В мгновение ока город оказался охвачен величайшим смятением; люди собирались повсюду <…>, – готовые на все, но не знающие, что предпринять. Молодой человек, отважнее других, один из обычных трибунов толпы, Камиль Демулен, взбирается на стол с пистолетом в руке и восклицает: “Граждане, нельзя терять ни минуты; смещение г-на Неккера – это набат Святого Варфоломея для патриотов! В этот самый вечер швейцарские и немецкие батальоны покинут Марсово поле, чтобы перебить нас! У нас один выход – взяться за оружие”. Его одобряют овациями. Он предлагает надеть кокарды, чтобы узнавать друг друга и защищаться. “Хотите ли, – говорит он, – зеленый, цвет надежды, или красный, цвет свободного ордена Цинцинната?” “Зеленый, зеленый”, – отвечает толпа. Оратор спускается со стола, цепляет к шляпе лист дерева, все ему подражают, каштаны во дворце почти лишаются листьев <…>» [34, р. 61–62].
«История французской революции» (1847) Ж. Мишле:
«Молодой человек, Камиль Демулен, выходит из кафе “Фуа”, запрыгивает на стол, выхватывает шпагу, показывает пистолет: “К оружию! Этим вечером немцы с Марсова поля войдут в Париж, чтобы перебить жителей! Нам нужно носить кокарду!” Он срывает с дерева листок и прикрепляет его к своей шляпе; все поступают также; деревья обнажаются» [33, t. 1, р. 91].
«История французской революции» (1847) Л. Блана:
«Тогда из кафе “Фуа” выходит молодой человек, взбирается на стул и, держа в одной руке пистолет, а в другой шпагу, взывает: “К оружию!” Затем, сорвав с дерева листок, он делает себе кокарду. В мгновение ока деревья обнажаются. Все спешат. Юный трибун вошел в историю под именем Камиля Демулена; для большинства из тех, кто в смятении последовал за ним, он все еще был всего лишь отважным незнакомцем» [18, t. 2, р. 346].
Заметно, что каждый последующий историк стремится модифицировать рассказ об этом эпизоде, сохранив ключевые символичные детали: имя народного трибуна, призыв «К оружию!», кокарды из древесных листьев, обнажившиеся деревья как показатель массовости событий. И с каждым новым обращением к эпизоду возможность модифицировать его, не прибегая при этом к «додумыванию», все уменьшается.
Дюма, как и его предшественники-историки, не мог обойти вниманием этот знаменательный момент народного волнения. Он включает его в роман и перерабатывает.
Прежде всего, он вводит элемент загадки. Перед читателем предстает не единое собрание возмущенного народа, а две процессии, встретившиеся на подступах к Пале-Роялю. Одна процессия украшена зелеными кокардами, другая – задается вопросом, что означают эти кокарды и не являются ли они отличительным знаком врагов. А далее Дюма повествует, как разрешается «загадка»:
«Через мгновение все разъяснилось.
Узнав об отставке Неккера, некий юноша вышел из кафе Фуа, взобрался на стол и, размахивая пистолетом, закричал: “К оружию!”
На этот крик к нему сбежались все, кто прогуливался в Пале-Рояле, и в свой черед стали призывать к оружию» [1, т. 21, с. 96].
Романисту оставалось еще, как минимум, упомянуть о происхождении зеленой кокарды и массовости ее использования. Если бы он сделал это сразу после упоминания о призыве к оружию, то пассаж почти не отличался бы от цитированных нами исторических текстов. Чтобы избежать этого, Дюма далее вводит фрагмент, где «реконструирует» содержание речи, обращенной Демуленом к народу. Видимо, отталкиваясь от текста Минье, романист включает сюда информацию об иностранных войсках, расположившихся в Париже, и утверждает, что Демулен озвучил названия этих полков и имена командиров-чужеземцев, что «оскорбляло слух французов» [1, т. 21, с. 96] и укрепляло волю к сопротивлению.
Поскольку Дюма задался целью детально описать события этого и следующих дней восстания, ему так или иначе пришлось бы сообщать читателю и о наемнических войсках, и об их иностранном происхождении, и о возмущении парижан использованием иностранной силы. Однако, вмонтировав эту информацию в «речь» Демулена, романист смог, не нарушая исторической достоверности, «разбавить» клишированный пассаж. И уже после этого он вернулся к истории с кокардой, предложенной Демуленом:
«Он предложил французам ввести новую кокарду, отличающуюся от вражеской, сорвал с каштана листок и прикрепил его к своей шляпе.
Тут же все присутствующие последовали его примеру. В десять минут три тысячи человек оборвали листья со всех деревьев Пале-Рояля.
Утром никто еще не знал имени этого юноши; вечером оно уже было у всех на устах» [1, т. 21, с. 96–97].
Здесь почти все как в исторических текстах. За исключением двух уточнений: указано количество слушателей Демулена – 3 тыс. человек и время, за которое оказались оборваны листья с деревьев – 10 минут. И то, и другое – условность, поскольку точное количество слушателей Демулена не имеет значения и не поддается подсчету; для понимания исторической логики важно лишь то, что это был массовый слушатель. Еще меньшую важность представляет точное время, потраченное на обрывание листьев для кокард. Эти уточнения нужны автору, чтобы формально приблизить свой рассказ к требованиям документальной точности; получалось, что романист сообщает даже более детальную информацию, нежели историки.
Однако для Дюма было важно еще и сообщить читателю, почему восставшие выбрали именно зеленый цвет кокарды, цвет надежды. Если бы романист включил эту информацию в пассаж о Демулене, то текст смотрелся бы как повтор соответствующего фрагмента из «Истории…» Минье. Поэтому Дюма «отрывает» это объяснение на полсотни страниц от рассмотренного нами эпизода и включает его в полилог «фоновых» персонажей:
«<…> Купеческий старшина подошел к окну.
– Друзья мои, – спросил он, – отчего у вас на шляпах зеленая кокарда?
Он говорил о листьях каштана – кокарде, предложенной Камиллом Демуленом, которую многие нацепили, беря пример с соседей, но не понимая, зачем они это делают.
– Зеленый цвет – цвет надежды! Цвет надежды! – послышалось несколько голосов» [1, т. 21, с. 140].
Прием, использованный Дюма для переработки эпизода о Демулене, В. Б. Шкловский называл «остранением». Это попытка автора изменить «маршрут» читательского восприятия к знакомой информации, описать вещь «как в первый раз виденную», «не изменяя сущности» [11, с. 14]. В «Анже Питу» такое отношение к историческому материалу превратилось для писателя в принципиальную установку: описать факты по-новому, не покушаясь на их достоверность.
Если учитывать историософскую и политическую позицию Дюма, то у него и не было мотивации искажать события. Исторические труды и документы содержали факты, подтверждающие мысли самого писателя, его собственную концепцию революции.
Концепция эта, как и в прежних романах серии, заключалась в том, что причиной революции стал окончательный отрыв монархии от интересов нации. В то время как высокомерная супруга Людовика XVI обходилась казне дороже, чем фаворитки его предшественника [1, т. 21, с. 120], народ стремительно нищал, а сословия оказались разделены, «как три отдельные нации» [1, т. 21, с. 125]. Даже после падения Бастилии монархия не осознала необходимости учитывать интересы нации: «В Версале двор самоотверженно боролся с народом. В Париже народ рыцарски сражался с двором. <…> Пока в Версале пили допьяна, в Париже, увы, и ели-то впроголодь. На версальских столах было слишком много вина. У парижских булочников было слишком мало муки» [1, т. 21, с. 125].
Дюма с сочувствием описывает многих защитников «старого порядка». Так, комендант павшей Бастилии де Лонэ изображен человеком безусловно храбрым и преданным короне, что не может не вызывать уважения. Стихийное буйство бунтующей толпы романист показывает без смягчений. Один из главных героев, участник восстания фермер Бийо, разочаровывается в происходящем, когда толпа убивает королевского телохранителя барона Жоржа де Шарни, которого Бийо помнил еще мальчиком, ездившим «по поручению матушки по деревням, чтобы раздать хлеб беднякам» [1, т. 21, с. 451]. Дюма, однако, не готов отождествлять революцию с уличными бесчинствами. Его позицию, кажется, исчерпывающе выражает другой персонаж, Жилибер: «Те, кто взял Бастилию, – герои; те, кто убил <…> господина де Лонэ, – преступники» [1, т. 21, с. 291]. При этом ответственность за кровопролитие лежит на монархии, поскольку «революция была дочерью изнасилованной нации» [1, т. 21, с. 127].
Словом, роман Дюма настраивал аудиторию на добросовестное следование исторической правде, а историческая правда оказывалась на стороне революции.
Повествование в романе доведено до октября 1789 г. Анж Питу возвращается в провинцию и организовывает отряд национальной гвардии в Виллер-Котре. Все говорит о том, что дальнейшие действия будут развиваться здесь, но роман вдруг обрывается почти на полуслове. Причины этой «недосказанности» значимы, и мы обязательно объясним их чуть позже. А пока нам стоит продолжить сопоставление интересующих нас романов и проанализировать, как перерабатывал исторические материалы барон де Базанкур в «Монтаньяре…».
«Монтаньяр…»: историческая достоверность и политическая целесообразность
Барону де Базанкуру приходилось опираться на те же источники, что и Александру Дюма. Сложность, однако, заключалась в том, что все эти источники, как мы уже говорили, утверждали мысль, что революция была неизбежна, а виновником революции явился абсолютизм. Базанкур же поставил перед собой задачу внушить аудитории мысль прямо противоположную, то есть ему нужно было дезавуировать выводы историков, опираясь на их же труды.
Отчасти проблема решалась выбором времени и места действия. Поскольку оспорить несостоятельность, которую продемонстрировала монархия накануне революции, было трудно, романист избегает этой темы и сосредоточивается на периоде террора, воспоминания о котором пробуждали сочувствие к казненным монархам и позволяли представить революционные события как беспрестанную череду убийств. Местом действия был избран Прованс, где монархическая оппозиция действительно была сильна. Читателю было трудно проверить, верно ли описаны события, происходившие в провинции, но когда действие романа переносится в Париж, то ситуация меняется: о партийных клубах, заседаниях Конвента, уличных столкновениях рассказывалось в известных исторических трудах.
Напомним, что главный герой романа Жорж Монтаньяр оказывается в Париже, став депутатом Конвента. Он принимает участие в межпартийной борьбе, но история и предмет этой борьбы преподносится автором довольно размыто[1], а потому создается впечатление, что даже сам Жорж не очень понимает, в чем суть политических противоречий между недавними союзниками. Труды историков подробно разбирали противостояние в Конвенте, но переносить эти подробности в роман – значило хотя бы отчасти соглашаться с тем, что столкновения между революционными силами имели под собой некую рациональную почву. Автор же стремился показать, что революционеры любой партии несли Франции лишь зло, а потому и борьба между ними представлена исключительно как хаотичное столкновение индивидуальных честолюбий и проявление жестоких инстинктов. В подкрепление этой мысли довольно щедро использовались патетические фразы, которые «помогали» читателю настроиться на эмоциональное восприятие исторических событий. Например, так:
«Смерть жирондистов была первым шагом в той кровавой борьбе, которая покрыла Париж братскими могилами и бросила его телегами жертв к ногам палача. Скорбное и отвратительное зрелище <…>. Бедная Франция! …Как они тебя унизили, бросили в грязь, обезглавливали! Ибо бесчестие – это эшафот нации» [12, т. 3, р. 86].
Но даже при всем этом материал, обнародованный в трудах историков, «сопротивлялся» однозначной демонизации революционеров. Приходилось его перерабатывать, руководствуясь принципами, которые станут очевидны после нескольких текстовых примеров.
Прежде всего, обратим внимание на выборочность изображения лиц и событий. В «объектив» попадает лишь то, что демонстрирует негативные последствия революции. Сказанное относится, например, к повествованию о казни Марии-Антуанетты. В развитии сюжета этот факт играет эпизодическую роль: он, наряду со многими подобными, призван продемонстрировать как революционная жестокость рождает в сознании главного героя разочарование в республиканских идеях. Между тем по объему и скрупулезной передаче подробностей рассказ о казни королевы имеет далеко не «проходное» значение.
Автору было необходимо как-то связать романный сюжет с судьбой Марии-Антуанетты. Первая «ниточка» протянулась от маркиза де Савернуа и его сына, которые, по задумке автора, в Париже участвовали в антиреволюционном заговоре. На первый взгляд, эта сюжетная ситуация открывала перспективу увлекательного рассказа о т. н. «заговоре гвоздик», целью которого было освобождение королевы из замка Консьержери. Об этом заговоре уже было написано немало. Во-первых, о нем рассказывалось в «Истории…» Тьера [43, t. 5, р. 381–382]. Кроме того, как помним, этот заговор послужил основой для романа Дюма «Шевалье де Мезон-Руж» (1845–1846) и его же одноименной пьесы (1847). О заговоре художественно рассказывал в своей «Истории жирондистов» (1847) Ламартин [31, t. IV, p. 335–338; t. VI, р. 372–378; 386–388]. В читательском сознании уже укрепилась «литературная легенда» о «заговоре гвоздик». Чтобы создать новый вариант этой «легенды», Базанкуру пришлось бы развернуть целый самостоятельный сюжет и слишком далеко уйти от центральной линии повествования. Вовсе обойти вниманием этот заговор – означало обмануть читательские ожидания, кроме того, упустить возможность напомнить об одном из благородных намерений монархистов. В итоге Базанкур касается «заговора гвоздик» мельком: маркиз де Савернуа поддерживает конспиративные контакты с неким парижским заговорщиком, который сообщает о попытках спасти королеву и об их тщетности [12, t. 3, р. 44]. Отцу и сыну де Савернуа остается лишь отправиться на Площадь Революции, чтобы присутствовать при последних минутах жизни королевы. Там же, на Площади, среди толпы находится и Жорж Монтаньяр. Большое нравственное значение казни Марии-Антуанетты для главных персонажей романа используется автором как повод для подробного рассказа о свершившемся событии.
Между тем, откуда Базанкур черпал материал? В трудах историков о последних минутах жизни королевы не так много информации. Это обусловлено тем, что, несмотря на трагичность и символичность, казнь Марии-Антуанетты мало влияла на ход истории. Тьер считал суд над королевой попыткой косвенного давления на Австрию, а казни посвятил лишь один абзац [43, t. 5, р. 390–391]. Минье придерживался той же точки зрения и гораздо большее внимание уделил казни жирондистов, последовавшей вскоре после казни королевы [34, р. 405]. А если бы Мишле издал тремя годами ранее VI том своей «Истории…», то Базанкур прочел бы там о казни королевы лишь две фразы, которые его вряд ли смогли бы вдохновить: «Она погибла 16 числа, в день битвы, и ее смерть мало впечатлила Париж. Все думали о другом: о великом скандале в Лионе и об отчаянной, ужасной борьбе, которую вела Северная армия» [33, t. VI, р. 319].
Символизм королевской казни давал значительно больший материал литераторам, нежели историкам. Так, несколько страниц посвящено последним минутам жизни Марии-Антуанетты в «Шевалье де Мезон-Руж» Дюма [1, т. 24, с. 329–336], а также в «Истории жирондистов» Ламартина (мы уже говорили, что его сочинение более тяготеет к литературе, нежели к историческому исследованию [6, c. 111]). Сопоставление текстов позволяет заключить, что за основу Базанкур взял именно повествование Ламартина.
В «Истории жирондистов» Ламартина подробно описывается путь королевы от замка Консьержери к месту казни. Приведем фрагменты, которые были использованы Базанкуром для собственного рассказа:
«Процессия покинула Консьержери под крики “Да здравствует республика!” “Дорогу Австриячке!” “Дорогу вдове Капет!” “Долой тиранию!” Комедиант Граммон, адъютант Ронсена, подал народу пример и сигнал для этих криков, размахивая обнаженной саблей и расталкивая толпу грудью своей лошади. <…> “Это не подушки Трианон!” – кричали какие-то гнусные существа. <…> Локоны ее волос выбились из-под чепца, и развеваясь на ветру, хлестали по вискам. <…> Когда она пересекла мост Пон-о-Шанж и шумные кварталы Парижа, молчание и серьезное выражение лиц в толпе указали, что люди в этом районе иные. Она медленно проехала всю улицу Сент-Оноре. <…> Глаза ее бродили <…> по фасадам домов. <…> Она искала взглядом окно, из которого ей должно было сойти отпущение грехов от переодетого священника. Жест, невнятный толпе, позволил ей найти его. <…> С этой минуты внутренняя радость и тайное утешение озарили ее лицо» [31, t. VI, р. 408–410].
А вот в каком виде этот материал вошел в роман Базанкура:
«Она покинула Консьержери с тем же спокойствием, с каким покинула бы королевский замок <…>.
Комедиант Граммон, расталкивая народ грудью своей лошади, следовал перед повозкой для приговоренных и бросал беснующейся толпе гнусные проклятья <…>.
<…> Гнусное улюлюканье отвратительной группы яростных революционеров при спуске с моста Пон-о-Шанж уступило место если не состраданию, <…> то, по крайней мере, ужасу. Королева проследовала по всей улице Сент-Оноре.
Крики смолкли. Но комедиант Граммон, достойный адъютант Ронсена, разгневанный тем, что толпа умолкла и перестала поносить идущую на смерть, стал содрогать воздух обнаженной саблей и новыми проклятиями.
<…> Старый провансальский дворянин, горестно опершись на руку сына (герои романа Базанкура отец и сын Савернуа. – В. О.), ожидал молча и в отчаянии.
<…> Когда королева проследовала перед ними, они непроизвольно обнажили головы <…>. Она поблагодарила их улыбкой, быстро скользнувшей по ее устам, и ее взгляд поднялся к небу. От страданий и бессонницы волосы молодой женщины поседели, и ветер поднимал их у висков, будто желая показать всем это последнее свидетельство ее мук. <…> Она будто искала в толпе, чтобы утешить себя, эти две непокрытые головы и эти два безутешных лица» [12, т. 3, р. 45–49].
Мы пока привели лишь фразы из «Монтаньяра…», которые подтверждают заимствования из текста Ламартина. «За кадром» осталось то, что Базанкур «дописал» от себя. Скажем об этом. Уже по приведенным фрагментам видна тактика Базанкура в работе с текстом Ламартина. Во-первых, это добавление оценочных высказываний, возвеличивающих королеву и обличающих «толпу». Во-вторых, нагнетание негативных подробностей. Последнее касается, например, образа «комедианта Граммона», который во время казни командовал отрядом кавалерии. Это реальная личность. Упоминая о нем, Ламартин, по-видимому, опирался на «Записки…» о Марии-Антуанетте Г. Л. Лафон д’Оссона [30, р. 322–326]. Уже там Граммон показан личностью мало привлекательной, в том же виде он «перекочевал» в «Историю жирондистов» Ламартина. Но в изображении Базанкура он превращается в совершенного изверга. Граммон не просто поощряет оскорбления, извергаемые толпой, он сам наносит оскорбление осужденной королеве: «<…> Наклонившись к королеве, <…> он коснулся ее лица кулаком, с насмешкой выкрикивая: “Ну же, мадам Вето, выше голову! Эй, Капет, сделаешь смешную рожу, как только чихнешь в мешок!” <…>» [12, t. 3, р. 46].
Еще один авторский способ «вмешаться» в историческую ситуацию – ввести в нее романные персонажи. Мы уже заметили, что на площади при последнем вздохе королевы присутствовали отец и сын де Савернуа. Это не все. Здесь же был и Жорж Монтаньяр. Причем его настолько возмутила выходка Граммона, что он едва не сбил его с лошади, за что сам удостоился потока оскорблений [12, t. 3, р. 47].
Суммируя сказанное, скажем, что Базанкур, как и Дюма, прибегает к приему «остранения». Разница, однако, в том, что у Дюма нет необходимости особенно усиливать акценты, «расставленные» в исторических повествованиях. Базанкур же за счет художественного вымысла утрирует «нужные» детали картины.
«Утрирует», если в целом согласен с автором исходного текста. Если нет, то «переработки» становятся более радикальными. Это хорошо видно на примере образа Дантона.
В романе есть такой эпизод:
«Сколь страшна фигура Дантона; можно было бы сказать, что видишь сам ужас. Писатель, изображавший его, имея портрет перед глазами, восклицает: “Нет, это не человек, это сама стихия смятения. Это страшно запятнанное оспинами лицо, с маленькими мрачными глазами, похоже на темный вулкан. Сумрачный гений, ты пугаешь меня. Это похоже на сотворение громадного, беспокойного, буйного, свирепого существа, будто из тех времен, когда природа еще действовала наощупь, не решив точно, людей ли создать или монстров. Тьма, помрачение, фатальность – вот, что мы читаем в этих пугающих чертах. Вулкан, грязевой или огненный, который в своей скрытой кузнице совершает борьбу между силами природы; каким будет извержение? Это Эдип, который несет в себе ужасного пожирающего его Сфинкса”» [12, t. 3, р. 90].
«Писатель», не названный Базанкуром по имени, – это Ж. Мишле. Поскольку тест «писателя» закавычен, то создается впечатление, что Базанкур в точности перенес в роман чужой фрагмент. Но это не так. «Цитата» сконструирована из фраз, которые рассредоточены на нескольких страницах «Истории…» Мишле. Приведем их:
«Сколь страшна фигура Дантона! Циклоп? Подземный бог?.. Это страшно запятнанное оспинами лицо, с маленькими мрачными глазами, похоже на темный вулкан… Нет, это не человек, это сама стихия смятения; оттуда веет опьянением и буйством, роком… Сумрачный гений, ты пугаешь меня! <…>» [33, t. 2, p. 350].
«У меня перед глазами портрет этого страшного, слишком жестоко достоверного олицетворения нашей Революции, портрет, где Давид[2] <…> рабски выписывал каждую деталь волосок за волоском, выдалбливал один за другим следы от оспинок, овраги, горы и долины этого мятежного облика.
Результатом стало мучительное и многотрудное сотворение громадного, беспокойного, буйного, свирепого существа, будто из тех времен, когда природа еще действовала наощупь, не решив точно, людей ли создать или монстров <…>. И все же это чудовище величественно. Это почти безглазое лицо кажется вулканом, не имеющим кратера, – вулканом грязевым или огненным, – который в своей скрытой кузнице совершает борьбу между силами природы. Каким будет извержение?
<…> Вы машинально присоединяетесь к этой видимой борьбе противоположных начал; вы участвуете во внутреннем напряжении, которое есть не только битва страстей, но битва идей <…>. Это преданный Эдип, одержимый своей загадкой, который несет в себе ужасного пожирающего его сфинкса» [33, t. 2, p. 358–359].
Легко заметить, что у Мишле портрет Дантона вызывает смешанные чувства. Наряду со страхом перед необузданной силой, историк ощущает и уважение к ней; сознает величественность личности; отмечает, что в основе поступков Дантона не только страсти, но идеи; наконец, сравнивает революционера с преданным Эдипом. В романе Базанкура все это изъято; оставлены только негативные оценки; даже вместо преданного Эдипа остается просто Эдип.
Впрочем, одного этого пассажа было недостаточно для демонизации Дантона. Историки уже ввели в оборот факты, благодаря которым Дантон приобрел героический ореол. Поведение Дантона перед казнью, пожалуй, наиболее поражало читательское сознание. Этот последний эпизод биографии и предсмертные слова затмевали на эмоциональном уровне восприятия все «грехи», которые инкриминировали революционеру его противники. Так что дегероизация Дантона требовала «переписать» финал его жизни.
Рассматриваемый вопрос хорошо демонстрирует разницу между подходами Базанкура и Дюма в работе с историческими материалами. Поэтому поступим так же, как при анализе эпизода с выступлением Камиля Демулена в романе «Анж Питу»: сначала представим фрагменты исторических исследований, а затем пассаж из романа «Монтианьяр…» – как результат художественного переосмысления этих фрагментов.
Итак, вот описание из «Истории французской революции» (1823) А. Тьера:
«Подойдя к подножию эшафота, Дантон собирался обнять Эро-Сешеля, протянувшего к нему руки; палач воспрепятствовал этому, и он с улыбкой обратился к нему со страшными словами: “Ты, значит, можешь быть более жестоким, чем смерть! Но ты не помешаешь нашим головам через мгновение поцеловаться на дне корзины”» [43, t. 6, р. 220].
«История французской революции» (1824) Ф.-О. Минье:
«Дантон высоко держал голову и смотрел вокруг спокойно и гордо. У подножия эшафота он на мгновение расчувствовался: “О, моя возлюбленная! – воскликнул. – О, моя жена! Я больше не увижу тебя!” Затем внезапно прервал себя: “Никакой слабости, Дантон!”» [34, р. 433].
«История жирондистов» А. де Ламартина:
«Дантон поднялся после всех. Никогда еще он не поднимался на трибуну столь величественно и внушительно. Стоя на эшафоте, он, казалось, оценивал свой пьедестал. С сожалением он взирал на народ по сторонам. Своей позой он будто говорил ему: “Разгляди меня получше, ты не увидишь никого, кто был бы похож на меня”. Однако природа на мгновение растопила эту гордость. У приговоренного вырвался возглас, исторгнутый воспоминанием о молодой жене: “О, моя возлюбленная, – воскликнул он с влажными глазами, – я никогда не увижу тебя”. “Вперед, Дантон, – сказал он себе вслух, – никакой слабости!” И, обернувшись к палачу, он властно промолвил ему: “Ты покажешь мою голову народу, она того стоит”. Голова его упала. Палач, повинуясь ее последней мысли, поднял ее в корзине и понес вокруг эшафота» [31, t. VIII, р. 69].
«Истории…» Ж. Мишле и Л. Блана к моменту создания «Монтаньяра…» еще не были доведены до момента казни Дантона (5 апреля 1794 г.), но приведенные фрагменты Базанкур должен был знать и с этим учетом выстраивать сцены, показывающие Дантона перед казнью. Поскольку целью была дегероизация Дантона, автору следовало каким-то образом уйти от фраз, произнесенных революционером на эшафоте и получивших всеобщую известность. Для этого Базанкур смещает внимание на чуть более ранний период времени – изображает, как Дантона и его соратников везут к эшафоту. Базанкур описывает парижскую толпу, осыпающую приговоренных проклятьями, в ответ на которые Дантон
«<…> выпрямился во весь рост и крикнул голосом, прогремевшим подобно раскату грома: “Неблагодарный и глупый народ! Ты не стоишь того, чтобы человек отдал тебе день, час своей жизни…”.
И он упал на скамью, бормоча багровыми губами слова, пропитанные самым отвратительным цинизм: “Что до меня, я смеюсь над этим; я радовался существованию; я много пошумел на земле; я насладился жизнью. Пора спать”» [12, t. 5, р. 23–24].
Поскольку подробности самой казни Базанкур не приводил, получалось так, что приведенные фразы и были предсмертными словами Дантона.
Происхождение фразы о «неблагодарном и глупом народе» нам установить не удалось. Судя по всему, это конструкт Базанкура. А вот тирада «Что до меня, я смеюсь над этим…» и т. д. взята у Ламартина, только произносит ее Дантон в иных обстоятельствах: он адресовал эти слова своим товарищам, находясь с ними в заточении в период допросов. Если следовать рассказу Ламартина, то Дантон, желая поддержать друзей и продемонстрировать собственную твердость, «старался казаться беззаботным» [31, t. VIII, р. 64]. То есть читателю Ламартина было понятно, что Дантон произносил эти слова с наигранным, а не «самым отвратительным» цинизмом, как это представлено Базанкуром. Вырвав тираду из контекста, Базанкур, по существу, подменил ею знаменитые предсмертные фразы Дантона, то есть подтасовал факты из соображений идеологической целесообразности.
А. Дюма и историческая достоверность
Судьбы «Монтаньяра…» и «Анжа Питу» оказались разными. Оба романа имели продолжение, но… Поскольку обращение к тетралогии Дюма о Великой французской революции играет в нашей работе вспомогательную роль (воссоздает историко-литературный контекст), сначала скажем о продолжении «Анжа Питу», чтобы исчерпать эту тему. Как уже отмечено, публикация романа в «La Presse» оборвалась вдруг, на полуслове в июне 1851 г. [20]. Причина на первый взгляд была коммерческой. В силу вступила т. н. «поправка Рианси», которая облагала дополнительным налогом газеты, публиковавшие романы-фельетоны. Чтобы избежать убытков, Жирарден потребовал от Дюма в несколько раз сократить роман [39, р. 106]; романист предпочел оставить повествование недосказанным.
Финансовая проблема, однако, была продуктом политического запроса. Романы-фельетоны заметно воздействовали на миропредставления широкой публики [4, с. 28], в том числе на социальные убеждения. Бытовало мнение, что романы-фельетоны изображают реальность в невыгодном свете и этим подрывают доверие к власти. Роман-фельетон даже считался одним из «виновников» революции 1848 г. [26, р. 31; 27]. Поскольку в 1849 г. в Законодательном собрании депутаты монархического толка взяли большинство и выстраивали диктатуру «партии порядка», то пропаганда левых идей подпала под сильное давление. Сначала был введен налог на всю периодику – своего рода имущественный ценз, вытесняющий демократические издания. А затем (в соответствии с той самой поправкой Рианси) был нанесен «точечный» удар по роману-фельетону. Взгляды А. Дюма не были радикальными, в серии романов «Записки врача» он явно примирял между собой «республиканские взгляды и сочувствие к монархическим жертвам» [37, р. 229], тем не менее в глазах «партии порядка» он выглядел кем-то вроде провокатора [38, р. 67]. Так что в данном случае поправка Рианси ударила в намеченную цель: «республиканский» роман Дюма прервался.
Через полгода, 2 декабря 1851 г., Луи Наполеон осуществит переворот, распустив Законодательное собрание и узурпировав всю полноту власти. Дюма не был депутатом, не возглавлял, подобно В. Гюго, сопротивление [9, с. 175], однако новая политическая реальность явно «конфликтовала» с его республиканскими убеждениями. Сразу после переворота начались репрессии: более 20 тыс. человек были изгнаны из страны или оказались под надзором [2, с. 150], 27 тыс. были арестованы [10, с. 205]. Не дожидаясь неизбежного, Дюма уедет в Бельгию, став политическим и «финансовым» изгнанником, поскольку скрывался и от диктатуры, и от кредиторов.
В этот период он и вернется к сюжету «Анжа Питу» и опубликует с 1852 по 1855 г. в Бельгии [21; 22] и во Франции [23; 24] многотомный роман «Графиня де Шарни». Повествование здесь продолжалось с того самого момента, которым оборвалось в «Анже Питу», система персонажей также сохранялась. И все же роман был принципиально иным. Главное отличие – уход романной коллизии на второй план. Местами автор предпримет почти хроникальное описание исторических событий. Собственно история революции станет стержневым сюжетом, а романный сюжет будет лишь пунктирно прослеживается как сопутствующая тема.
Теперь, оставив в стороне вымышленных героев, оказавшийся в изгнании Дюма подолгу излагает ход политических перипетий, описывает борьбу партий, пересказывает содержание принятых Национальным собранием документов и проч. Некоторые прежние персонажи порою «мелькают» в повествовании, но, кажется, для того лишь, чтобы связь романа с серией «Записки врача» не утратилась вовсе. Даже графиня де Шарни, именем которой назван роман, на фоне воссозданной исторической панорамы воспринимается персонажем второстепенным.
В какой-то момент Дюма даже заявляет: «Должно быть, наши читатели заметили, что мы пишем историческое повествование, а не роман <…>» [1, т. 23, с. 261]. Ход исторических событий уже не объясняется романными коллизиями, и автор признает, что вымышленные герои нужны, чтобы «разбавить» сухие факты. Он, скажем, придумывает сцену беседы между Марией-Антуанеттой и одним из таких вымышленных героев и сообщает: «Мы передали этот разговор между королевой и доктором Жильбером, чтобы ненадолго прервать историческое повествование, всегда страдающее некоторой монотонностью, и несколько оживить хронологическое изложение событий, <…>» [1, т. 23, с. 276].
При сосредоточенности на исторической достоверности не остается места для фантастической версии; революция уже не может быть представлена как результат масонского заговора Калиостро. Романист продолжает описывать среду провинциальных санкюлотов с добродушной иронией, но дает понять, что именно эта среда явилась источником борьбы за республику. В романе есть сцена, когда простонародье Виллер-Котре впервые слышит декларацию прав человека. Авторское отступление при этом превращается в настоящий гимн:
«Народ впервые с изумлением слышал признание его прав, провозглашенных средь белого дня, <…> перед лицом Всевышнего, у кого он так долго вымаливал эту естественную хартию, полученную после многовекового рабства, нищеты и страданий!..
Впервые человек, живой человек, на протяжении шести столетий державший на своих плечах здание монархии, по правую руку от которой была знать, а по левую – духовенство; впервые и рабочий, и ремесленник, и землепашец осознал свою силу, свое значение; понял, какое место на земле он занимает и чему равна тень, отбрасываемая им под солнцем, – и все это он узнал не по прихоти своего хозяина, а от одного из себе подобных!» [1, т. 22, с. 427].
Понятно, что этот пассаж может быть использован как средство пропаганды, но в целом романисту удается уберечь повествование от «соскальзывания» в область «тенденциозности». Дюма декларирует стремление к «беспристрастности» [1, т. 22, с. 583] и на самом деле ее демонстрирует, когда сочувственно изображает жертвы с обеих сторон или рассказывает об ошибках и жестокости – тоже обеих сторон.
В целом можно сказать, что в романе «Графиня де Шарни» Дюма будет развивать тенденцию к документализму, заложенную в «Анже Питу», и продемонстрирует принципиально иное отношение к историческим фактам, нежели в прежних романах: главным в повествовании стали именно реальные факты, а вымысел лишь помогал преподнести их читателю.
Существует сугубо техническое объяснение этому. С. Сойер справедливо указывает, что в период создания «Анжа Питу» испортились отношения между Дюма и его литературным помощником О. Маке [40, р. 66], в союзе с которым создавались многие прежние романы [32, р. 82; 42, р. 103, 146]. В обязанности Маке входила обработка исторического фактажа, и теперь Дюма пришлось самому обратиться к изучению источников. Это стимулировало интерес Дюма к историческим документам, что, в свою очередь, усилило роль этих документов в повествовании. Отчасти, видимо, так, но главная причина все же шире.
После конфликта с Маке для Дюма было бы проще не укрепить, а ослабить историческую составляющую и сосредоточиться на художественном вымысле. Но кипящая политическая реальность того периода обесценивала «художественные фантазии» и делала востребованными исторические аналогии. Именно историческая достоверность становилась залогом читательского интереса. Дюма откликнулся на «читательский запрос» и, судя по всему, сам искренне увлекся осмыслением исторических данных. Во всяком случае, в 1850–1851 гг., то есть одновременно с «Анжем Питу», он публиковал сочинение «Людовик XVI (История Людовика XVI и Марии-Антуанетты), а в 1852–1854 гг. – «Последний король (История политической и частной жизни Луи-Филиппа)». Эти сочинения вряд ли можно назвать в точном смысле слова историческими исследованиями, поскольку они содержат много материалов из области «исторических анекдотов», однако они основаны на исторических источниках, имеют вид хроник [8, с. 187] и не предполагают использование художественного вымысла. В целом следует заключить, что, обновляя принципы романного историзма, А. Дюма последовательно двигался к абсолютизации исторической достоверности.
Барон де Базанкур и политическая тенденция
Теперь вернемся к роману барона де Базанкура «Монтаньяр…». В отличие от «Анжа Питу», «Монтаньяр…» не имел проблем с публикацией газетного варианта. Видимо, владельцев монархической газеты не смущала дополнительная финансовая нагрузка, диктуемая поправкой Рианси. 3 мая 1850 г. «Монтаньяр…» начал печататься в «L’Assemblée nationale», а уже с 31 мая того же года [15] перепечатывался (со ссылкой на «L’Assemblée nationale») провинциальной газетой «Courrier de Marseille» , редактируемой Луи Барилем. Интерес этой газеты к роману Базанкура объяснялся идеологическими соображениями. Судя по общему духу публикаций, издание носило монархический и бонапартистский характер.
Марсель был крупным торговым и промышленным центром, что обеспечивало и «плотность» третьего сословия, и его активность, потому город воспринимался как один из очагов «красных» настроений. В то же время в городе была сильна партия крупных собственников, которые искали новые формы отношений с работниками и вообще низшим классом [19]. Газета «Courrier de Marseille» выполняла роль рупора марсельских «элит», и «Монтаньяр…» вполне подходил ей как инструмент антиреволюционной пропаганды. Более того, уже через три недели после начала публикации редакция решила предоставить роману дополнительное место на страницах газеты: «Замечательное произведение г-на де Базанкура, – гласило редакционное сообщение, – для нас интересно вдвойне: оно прослеживает один из самых захватывающих эпизодов ужасной эпохи, к которой нас пытались вернуть тайные заговоры демагогов, а кроме того, действие разворачивается в Арле, в наших краях, в двух шагах от нашего порога» [35]. Редакция обещала увеличить объем ежедневных публикаций романа с 4 до 8 колонок, если это позволят «потребности политической партии» [35]. Очевидно, речь идет о «партии порядка», а «Монтаньяр…» соответствовал «потребностям» «партии», поскольку в дальнейшем действительно стал занимать 8 колонок и печатался до 16 января 1851 г. [16]. Барону де Базанкуру публикация романа сделала в Марселе некоторую репутацию; когда в ноябре 1851 г. он приехал в город, газета «Courrier de Marseille» напомнила аудитории, что именно он является автором «замечательного и драматичного произведения “Монтаньяры (так в тексте. – В. О.), или Две республики”» [36].
Между тем критики, кажется, не спешили обсуждать «Монтаньяра…». Единственный отклик нам удалось обнаружить в той же газете «L’Assemblée nationale», где печатался роман. Автор статьи Франсис Лакомб пространно пересказывал содержание романа, указывая, что главная интрига – противопоставление, с одной стороны, «благородного маркиза де Саверноуа, следующего рыцарским принципам времен Карла Великого», а с другой – простолюдина, «увлекшегося революционными идеями», ставшего «рабом Робеспьера» и «служащего олицетворением той злосчастной эпохи» [29]. Критик хвалил и художественную, и идейную линии романа, и, думается, делал это искренне. Он сам только что выпустил объемную книгу «Этюды о социалистах. Социализм в прошлом; социализм в настоящем; социализм в будущем» (1850). Это одно из тех сочинений, которые во множестве появлялись в ту пору и служили политической борьбе против «красных» идей. В книге утверждалось, что монтаньяры – те же социалисты [28, c. 148], а социалисты – «варвары худшей породы», которые настолько «увлеклись исправлением общества» [28, р. XXV], что это поставили под угрозу саму цивилизацию. Социализм, по убеждению Лакомба, ведет к террору и анархии [28, c. 7] и является «ужасной доктриной» [28, c. 28], расцветающей под покровом «оккультной и сатанинской силы» [28, c. 28]. Словом, Лакомбу действительно идеи романа «Монтаньяр…» должны были импонировать, другое дело, что его критическая статья выполняла в основном функцию вспомогательную – служила анонсом для второй части романа «Монтаньяр, или Две республики», которая называлась «1848 год» и которую газета начинала печатать в этом самом номере от 23 апреля 1850 г. и даже на этой же полосе [17], где размещалась и статья Лакомба. Впрочем, об этой части романа барона де Базанкура мы планируем говорить в следующей статье.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Романное повествование о Великой французской революции, безусловно, стало для барона де Базанкура новым творческим этапом. Прежде всего, в отличие от прежних сочинений, роман «Монтаньяр…» оказался совершенно подчинен идеологическим задачам, так что развлекательная функция оказалась вспомогательной. С точки зрения чисто художественной, основную сложность для автора, по-видимому, составляла необходимость согласовывать творческое воображение с обильными историческими данными о не столь уж давней эпохе. Хотя автор продолжил пользоваться многими трафареты авантюрного жанра, в повествование введены реальные исторические личности, отсылки к известным историческим фактам и текстам – как примета документализма и достоверности. Именно как примета, как «“убеждающий” прием типа ремарок: “основано на реальных событиях”, “это произошло там-то и тогда-то”» [7, с. 4]. В реальности же романное повествование организовывалось не исторической данностью, а политическим запросом, что вынуждало автора осуществлять подбор фактов и их комбинирование для решения идеологической задачи и в ущерб исторической достоверности.
Думается, не следует скоропалительно и механически применять этот вывод к будущим сочинениям барона де Базанкура о Крымской войне. Хотя бы потому, что осаду Севастополя Базанкур будет описывать в роли не романиста, но очевидца, военного корреспондента, бытописателя, историка, а стало быть, и повествовательные принципы будет использовать иные, нежели в романе. Однако преимущество, отданное Базанкуром идеологическим задачам в романе «Монтаньяр…», безусловно, должно служить для нас опосредованным сигналом о приоритетах литератора в освещении реальных событий.
References
- Djuma A. Sobanie sochinenij: V 50-ti t. [Collected Works: In 50 vols]. Moscow, Art-Biznes-Centr, 1992–2005. 21–24 vols.
- Lansero G. Izgnanniki Vtoroj imperii: napisanie istorii Revoljucii i imperii za predelami Francii [Exiles of the Second Empire: Writing the History of Revolution and Empire Outside France]. Francuzskij ezhegodnik 2022: Francuzy za predelami Francii. T. 55. Moscow, IVI RAN Publ., 2022, pp. 148–165.
- Litvinenko N. A. Tetralogija A. Djuma o Velikoj francuzskoj revoljucii: poiski novogo jepicheskogo sinteza: Uchebnoe posobie [Tetralogy of A. Dumas on the Great French Revolution: the search for a new epic synthesis: Study guide]. Moscow, URAO , 2005. 80 p.
- Makarova P. A. Francuzskij istoricheskij roman 1840–1850-h gg. i stanovlenie populjarnoj belletristiki (Je. Sju, A. Djuma, Zh. Barbe d’Oreviji): Dis. … kand. filol. nauk [French historical novel of the 1840-1850s and the formation of popular fiction (E. Sue, A. Dumas, J. Barbey d’Aurevilly). Thesis]. Moscow, 2014. 197 p.
- Moshenskaja L. O. Neprivychnyj Djuma (Cikl romanov o Velikoj francuzskoj revoljucii) [Unusual Dumas (Cycle of Novels about the Great French Revolution)]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 9. Filologija, 1998, no. 4, pp. 7–13. Available from: http://xn--80ahnog3hl.xn--p1ai/duma/djuma_v_statjax_predislovijax_i_posleslovijax/neprivychnyj_djuma_l_o_moshenskaja (accessed 23.01.2025).
- Orehov V. V. Baron de Bazankur: literator, istorik, voennyj korrespondent. Chast’ VII. «Revoljucionnyj» roman [Baron de Bazancourt: writer, historian, war correspondent. Part VII. “Revolutionary” novel]. Uchenye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Filologicheskie nauki, 2025, vol. 11, no. 2, pp. 102–121.
- Orehova L. A. Sjuzhet «syn polka» v realijah Krymskoj partizanskoj bor’by: istorija Volodi Degtjareva po materialam Krymskogo arhiva [The plot of “son of the regiment” in the realities of the Crimean partisan struggle: the story of Volodya Degtyarev based on the materials of the Crimean archive]. Uchenye zapiski Krymskogo federal’nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Filologicheskie nauki, 2025, vol. 11, no. 2, pp. 3–18.
- Rjabov F. G. Istorija v proizvedenijah A. Djuma [History in the works of A. Dumas]. Novaja i novejshaja istorija, 2003, no. 1, pp.181–191.
- Smirnov A. Ju. Imperija Napoleona III [Empire of Napoleon III]. Moscow, Jeksmo, 2003. 288 р.
- Cherkasov P. P. Napoleon III – imperator francuzov [Napoleon III – Emperor of the French]. Novaja i novejshaja istorija, 2012, no. 3, pp. 197–216.
- Shklovskij V. B. O teorii prozy [On the Theory of Prose]. Moscow, Federacija, 1929. 265 p.
- Bazancour [baron] de. Le Montagnard, ou les Deux républiques. 1793–1848. Bruxelles, Kiessling et compagnie, 1850, vol. 3, 5.
- Bazancour [baron] de. Le Montagnard, ou les Deux républiques. 1793–1848. Première partie. – 1793. X (Suite) // L’Assemblée nationale, 1850, 22 juin, pp. 1–2.
- Bazancour [baron] de. Le Montagnard, ou les Deux républiques. 1793–1848. Première partie. – 1793. XIII (I) // L’Assemblée nationale, 1850, 30 juin, pp. 1–2.
- Bazancourt [baron] de. Le Montagnard, ou les Deux républiques. 1793–1848. Première partie. – 1793. Chapitre I // Courrier de Marseille, 1850, 31 mai, p. 1.
- Bazancour [baron] de. Le Montagnard, ou les Deux républiques. 1793–1848. Chapitre XVII // Courrier de Marseille, 1851, 16 janvier, pp. 1–2.
- Bazancourt [baron] de. Le Montagnard, ou les Deux républiques. 1793–1848. Seconde partis. – 1848. Prologue // L’Assemblée nationale, 1851, 23 avril, pр. 1–3.
- Blanc L. Histoire de la Révolution française. 12 vol. Paris, 1847–1862, vol. 2.
- Christofferson T. R. Les conceptions sociales des notables de Marseille sous la Seconde République // Annales du Midi: revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, 1973, vol. 85, no. 114, pp. 423–433.
- Dumas A. Ange Pitou. LXX. Le miel et l’absinthe // La Presse, 1851, 26 juin, pp. 1–2.
- Dumas A. La Comtesse de Charny. T. 1. Bruxelles: Librairie de C. Muquardt, 1852. 143 p.
- Dumas A. La Comtesse de Charny. T. 17. Bruxelles: Librairie de C. Muquardt, 1855. 113 p.
- Dumas A. La Comtesse de Charny. T. 1. Paris: A. Cadot, 1852. 305 p.
- Dumas A. La Comtesse de Charny. T. 19. Paris: A. Cadot, 1855. 303 p.
- Dumasy-Queffélec L. L’entrée dans l’histoire du roman dumasien: de l’avènement révolutionnaire à l’aventure napoléonienne // Elseneur, 2024, no. 39. pp. 111–120.
- Hallade S. Aux frontières de la littérature et de la politique: les feuilletonistes Alexandre Dumas, Paul Féval et Eugène Sue sous la Deuxième République, des écrivains transgressifs? // Sociétés & Représentations, 2015, no. 39, pp. 13–32.
- Hallade S. Le roman-feuilleton, un medium quarante-huitard? Littérature, politique, morales et mémoires de la Deuxième République (1848–1852) // 1848 et la littérature. Les colloques. – Paris: Fabula, 2021. Available from: https://www.fabula.org/colloques/document6990.php (accessed 10.03.2025).
- Lacombe F. Études sur les socialistes. Le socialisme dans le passé; le socialisme dans le présent; le socialisme dans l’avenir. Paris: Lagny frères, 1850. 574 p.
- Lacombe F. Le Montagnard, ou les Deux républiques. 1793–1848. par M. de Bazancourt. Première partie // L’Assemblée nationale, 1851, 23 avril, p. 3.
- Lafont D’Aussonne G. L. Mémoires secrets et universels des malheurs et de la mort de la reine de France. Paris: Petit, 1824. 432 р.
- Lamartine M. A. de. Histoire des Girondins. Paris: Furne & Cie, 1847, vol. IV, VI, VIII.
- Martone E. Defining the Scope of Alexandre Dumas’s La Drame De La France: Problems, Considerations, and Debates // European Journal of Language and Literature, 2021, vol. 7, no. 1 (January – April), pp. 71–88.
- Michelet J. Histoire de la Révolution française. Paris: Chamerot, 1847–1853, vol. 1–6.
- Mignet F. A. Histoire de la Révolution française, depuis 1789 jusqu’en 1814. Paris, Firmin Didot, père et fils, 1824. 744 р.
- Nouvelles locales // Courrier de Marseille, 1850, 21 juin, p. 2.
- Nouvelles locales // Courrier de Marseille, 1851, 10 novembre, p. 2.
- Ritz O. La fabrique romanesque de la Révolution française // Acta fabula, 2015, vol. 16, no. 4. Available from: https://www.fabula.org/revue/document9256.php (accessed 10.03.2025).
- Ritz O. L’an IX ou l’historiographie de la Révolution en débat // La Révolution française, 2016, no. 10. Available from: http://journals.openedition.org/lrf/1603 (accessed 10.03.2025).
- Saminadayar-Perrin C. Entrer en Révolution // T. 39. Alexandre Dumas, ou l’art de bien commencer. Caen, Presses universitaires de Caen, 2024, pp. 97–110.
- Sawyer S. La Revolution selon Alexandre Dumas. A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements of the degree of Master’s of Art. Montreal, 1994. 162 р.
- Sevet F. Le personnage de Gilbert dans Joseph Balsamo d’Alexandre Dumas: un vrai apprentissage? // Chimères, 2007, vol. 30, no. 1, pp. 45–54.
- Simon G. Histoire d’une collaboration. Alexandre Dumas et Auguste Maquet. Paris, Éditions Georges Crès & Cie, 1919. 204
- Thiers M. А., Bodin F. Histoire de la Révolution française: accompagnée d’une histoire de la révolution de 1355, ou des États généraux sous le roi Jean. Paris, 1834, vol. 1, 5, 6.
[1] Еще более затуманила парижские события ошибка издателей. 22 июня 1850 г. «L’Assemblée nationale», перепутав очередность, разместила эпизод [13], который должен был печататься позже, и нарушила хронологию сюжета. Со следующего номера газеты повествование снова возвращалось в логичное русло без всяких разъяснений. Когда дошла очередь до фрагмента, который газета уже публиковала по ошибке, его снова опубликовали с абстрактным пояснением, что это делается из заботы о читательском интересе к тексту [14]. Самостоятельное издание романа готовилось в том же году и явно второпях, так что «неблагополучный» фрагмент и в книге был опубликован дважды [12, t. 3, р. 19–28, 85–95], что нарушало логику рассказа; причем редакторы запутались в очередности глав, так что в 3 томе романа оказалось сразу две XII главы.
[2] Имеется в виду художник Жак Луи Давид, депутат Конвента, член фракции Монтаньяров.