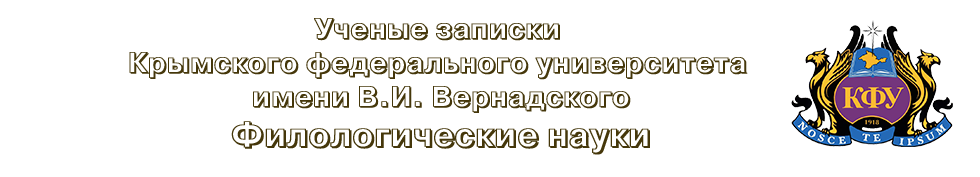TOWARDS SCIENTIFIC ANALYSIS OF EVOLUTION EXPRESSIONS «KARA HALYK»
К НАУЧНОМУ АНАЛИЗУ ЭВОЛЮЦИИ ВЫРАЖЕНИЯ «ҠАРА ХАЛЫҠ»
JOURNAL: «Scientific Notes of V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Philological sciences», Volume 11 (77), № 1, 2025
Publication text (PDF): Download
UDK: 811.512.141
AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION AUTHORS:
Khuzhakhmetov A. O., Ufa University of Science and Technology, Ufa, Russian Federation
Khuzhakhmetova G. N., Ufa University of Science and Technology, Ufa, Russian Federation
TYPE: Article
PAGES: from 129 to 145
STATUS: Published
LANGUAGE: Russian
KEYWORDS: «kara khalyk», ethnofolism, construct, dichotomy «friend or foe», opposition, invective, peyorative, connotation, presupposition, anti-teaching.
ABSTRACT (ENGLISH):
The article discusses the etymology and evolution of the expression «kara halyk» from ancient times to the present day. Throughout its historical development, this vocabulary has undergone significant changes, evolving and generating numerous variations. Its meaning ranged from designating categories such as «crowd» or «rabble» to word formations that carry connotations of commonality, lack of education, as well as physical characteristics such as «dark», etc. An analysis of the speech of one of the actors delivered in the village of Ishmurzino of the Republic of Bashkortostan (translated by A. O. Khuzhakhmetov). An invective interpretation of the expression «kara khalyk» with a negative connotation addressed to representatives of Central Asia and the Caucasus is shown. The speaker resorts to a subjective reinterpretation of history, protruding individual facts and figures in such a way as to present them in the most favorable light for himself. At the same time, he places them in an artificially created, devoid of logic time context, contrasting with generally accepted historical ideas. In general, the authors made an attempt to study the problem of the emergence and development of the invective stratum, as well as ethno-folisms, in the Bashkir language.
ВВЕДЕНИЕ
Наблюдения и многочисленные попытки интерпретировать выражение «ҡара халыҡ», функционирующее ныне в сети Интернет, дают нам возможность систематизировать довольно обширную информацию и поделиться некоторыми выводами и обобщениями на этот счет.
2010-е и 2020-е годы оказали заметное влияние на жизнь российского общества. Возникли новые политические, социальные и культурные вызовы, на которые необходимо отвечать. Вслед за социумом и культурой язык тоже подвергается законам эволюции. Меняется сама структура языка, происходят заимствования из других языков, видоизменяется под воздействием различных факторов семантическая база отдельного слова и устойчивого словосочетания.
Как утверждал И. Г. Галяутдинов, касаясь литературного языкового пласта, язык развивается под воздействием внутренних противоречий между взаимоисключающим, но неразрывно связанным с традиционным и новым на всех языковых уровнях [7]. Выстраивание литературного языка происходит в эпоху становления нации. XIX – начало XX века – эпоха нациеобразования, формирования национального самосознания не только в Европе, но и во всем мире.
Системное генерирование литературного башкирского языка связано с развитием механизмов советского государства и общества. Здесь необходимо упомянуть Н. Т. Тагирова [27; 28], Г. Я. Давлетшина [12; 13], А. А. Мансурова [22] и др. Окончательное становление литературного языка связано с именами Н. К. Дмитриева [14], Дж. Г. Киекбаева [17; 18; 19], Н. Х. Ишбулатова [15] и др. и относится к 1950-м – 1960-м годам, когда были оформлены и закреплены грамматические, в том числе морфологические и лексические основы языка.
Необходимо учесть то, что советский культурный код предполагал распространение моральных принципов, нравственной цензуры (и самоцензуры) на все сферы жизни. Таким образом он не допускал использование ненормативной лексики, тюремного жаргона (арго) и др. языковых пластов разговорной речи, а также инвективной лексики в литературном формате. Поэтому ни в одном из нормативных словарей слова нецензурной или резкоинвективной направленности не присутствовали. Яркий пример тому – толковый словарь С. И. Ожегова, первое издание которого увидело свет в 1949 г. [24].
В национальных языках, в которых советское представление о морали дополнялась пострелигиозным и местным табу, границы дозволенного еще более сужались. Поэтому исследования в данной области русского языка хотя и начались в 70–80-е гг. XX века, но активно стали разрабатываться в отечественной лингвистике лишь в постсоветский период. Например, научные изыскания профессора М. А. Грачева в области русского арго, воровского жаргона и молодежных сленгов долгое время рассматривались вне науки.
В башкирской лингвистике специально инвективный пласт впервые изучала З. М. Раемгужина, тема научного исследования которой затрагивала башкирский антропонимикон в свете языковой картины мира [25]. Собранные ею материалы легли в основу сборников частушек, среди них – «Застольные частушки» (2002 г.). Заслуживают внимания и отдельные разделы ее диссертации доктора филологических наук: особый интерес в рамках избранной темы вызвал раздел «Особенности формирования функционально-семантической нагрузки и специфически различительных свойств прозвищ в системе современного башкирского антропонимикона».
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ
Что касается выражения «ҡара халыҡ», то у этого устойчивого словосочетания в башкирском языке имеется много смысловых вариаций. Само слово «ҡара» в нашем случае, когда мы касаемся характеристики отдельного антропоса или группы, несет в себе общность, совокупность смыслов. Мы как используем интернет-источники, так и полагаемся на примеры Академического словаря башкирского языка. Имеющиеся интерпретации выражения приводим в таблице 1 «Ҡара халыҡ»:
Таблица 1
«Ҡара халыҡ»
|
№ |
термин, понятие |
Значение, дефиниция |
Авторы, откуда взято |
|
1 |
Ҡара халыҡ |
АЛАМАН II (Р.: толпа; И.: crowd; Т.: kalabalık) и. иҫк. Кешеләр төркөмө, ҡара халыҡ. Толпа. |
Академический словарь башкирского языка / Под ред. Ф. Г. Хисамитдиновой. – Уфа: Китап, 2013. – Т. 5. – 888 с. |
|
2 |
Ҡара халыҡ |
Ҡара кешенең тире сыҡҡансы, һары кешенең йәне сығыр. Әйтем. (пер. «Душа бледно-жёлтого (бледного, болезненного) человека выйдет раньше, чем кожа у черного») |
Академический словарь башкирского языка / Под ред. Ф. Г. Хисамитдиновой. – Уфа: Китап, 2013. – Т. 5. – 888 с. |
|
3 |
Ҡара халыҡ |
Ҡара наҙан. Необразованный, неграмотный. Йәһел мөрәккәб булыу. Уҡымай йөрөп, йәһел мөрәккәб булып ҡалыу Ҡара йөрәк(ле) ҡаты күңелле, бәғерһеҙ, яуыз. Жестокосердный. |
Академический словарь башкирского языка / Под ред. Ф. Г. Хисамитдиновой. – Уфа: Китап, 2013. – Т. 5. – 888 с. |
|
4 |
Ҡара халыҡ |
Көслө, төп. Сильный, неистовый, основной. Ҡара башҡорт. Ҡара табын. Ҡара ҡыпсаҡ. |
Академический словарь башкирского языка / Под ред. Ф. Г. Хисамитдиновой. – Уфа: Китап, 2013. – Т. 5. – 888 с. |
|
5 |
Ҡара халыҡ |
Ҡара ҡорһаҡ ашау-эсеүгә талымһыҙ кеше хаҡында. Прожорливый. Много ест. |
Академический словарь башкирского языка / Под ред. Ф. Г. Хисамитдиновой. – Уфа: Китап, 2013. – Т. 5. – 888 с. |
|
6 |
Ҡара халыҡ |
Керле, бысраҡ. Чёрный, грязный. Ҡара ҡулдар. • Ҡаҙанға яҡын барһаң, ҡараһы йоғор, яманға яҡын барһаң, бәләһе йоғор. Әйтем. |
Академический словарь башкирского языка / Под ред. Ф. Г. Хисамитдиновой. – Уфа: Китап, 2013. – Т. 5. – 888 с. |
|
7 |
Ҡара халыҡ |
миф. Кешенең күңел донъяһын кәүҙәләндергән тән өлөшө. Лицо, лик (мифологизированная часть тела, на котором отражается душа, внутренний мир человека). Ҡара йөҙ |
Академический словарь башкирского языка / Под ред. Ф. Г. Хисамитдиновой. – Уфа: Китап, 2013. – Т. 5. – 888 с. |
|
8 |
Ҡара халыҡ |
Ҡара йәштән бик бәләкәй саҡтан. С малых лет. [Гөлйөҙөм — Ғәзим әгә:] Ҡара йәштән төшөп һеҙгә эшләнем, һеҙ ағыу сәсеп оҙатаһығыҙ! Һ. Дәүләтшина. Йыландай телде сығарыу бик ныҡ ялағайланыу, уҫал, яуыз ниәтле хәбәр һөйләү. Подхалимничать, угодничать, подлизываться. Йыландай телемде сығарып ялындым, Алдаҡсы, йыландай телен сығарып, һуҙ бирә бит әле ул, ә мин, йәш иҫәр, уға ышанған булып, исемен ҡара таҡтанан төшөрттөм, Б. Бикбай. |
Академический словарь башкирского языка / Под ред. Ф. Г. Хисамитдиновой. – Уфа: Китап, 2013. – Т. 5. – 888 с. |
|
9 |
Ҡара халыҡ |
а) иҫк. Революцияға тиклемге Рәсәйҙә түбәнге ҡатламға ҡараған, ябай халыҡҡа мөнәсәбәтле. Простой, незнатный. Ҡара мужик. Ҡара эшсе. И как следствие возникают следующие производные; б) күсм. Айырым оҫталыҡ, квалификация талап итмәгән, күберәк ҡул көсөнә, физик эшкә бәйле булған. Чёрный, неквалифицированный, подсобный (о работе, труде и т. д.). Ҡара эш. Ҡара эштә эшләү. Әллә ниҙә бер ҡайтҡан кешене ҡара эшкә [ер ҡаҙырға] ҡушыу оҡшамаҫ. Б. Бикбай. Данлы көсөң муйырылғас, ҡара көсөңә ҡалдың. Туй йырынан. в) Бында, революциянан уҙ кәрәктәрен алып тынысланған һәм эшсе-крәҫтиәндәрҙең революцияһынан ҡото осҡан либераль буржуазия, кадеттар, батша менән берләшеп алып, ҡара реакцион роль уйнанылар. Һ. Дәүләтшина г) Культураһыҙ, артта ҡалған, наҙан. Тёмный, непросвещённый, необразованный. Ҡара халыҡ. Ҡара халыҡты иҙеү. Ҡара халыҡ араһында ағартыу эштәре |
Академический словарь башкирского языка / Под ред. Ф. Г. Хисамитдиновой. – Уфа: Китап, 2013. – Т. 5. – 888 с. |
|
10 |
Ҡара халыҡ |
общинники, ремесленники, мелкие торговцы, рабы-полонянники, податное население, ясачные люди XIII-XVI вв. |
Кара халык // Онлайн — энциклопедия Tatarica. – Режим доступа: https://tatarica.org/ru/razdely/istoriya/srednie-veka/kara-halyk – (Дата обращения: 28.08.2024) |
|
|
Ҡара халыҡ |
«Чернь (историзм, от «черные люди») — люди из непривилегированных классов, простонародье, толпа, в поэтической речи — народ, лишённый высоких интересов. См. также охлократия, народ» |
Абдулова А. «Не так слово переводится»: жители Башкирии возмущены доносом Хабирова на Алсынова[1] // Пруфы: свободая медиаплатформа. – Режим доступа: https://prufy.ru/news/society/144383-ne_tak_slovo_perevoditsya_zhiteli_bashkirii_vozmushcheny_donosom_khabirova_na_alsynova/ – (Дата обращения: 28.08.2024) |
|
12 |
Ҡара халыҡ |
“Относящийся к низшему слою, безграмотный, невежда” |
Академический словарь башкирского языка / Под ред. Ф. Г. Хисамитдиновой. – Уфа: Китап, 2013. – Т. 5. – 888 с. С. 228-231. |
|
13 |
Ҡара халыҡ |
малообразованный, некомпетентный народ |
Раемгужина З. М. Башкирский антропонимикон в свете языковой картины мира (аспекты формирования и особенности функционирования): Автореферат дисс. на соискание ученой степени докт. филол. наук: 10.02.02. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2009. 48 с. |
|
14 |
Ҡара халыҡ |
«ҡара халыҡ», «ҡара эшсе», то есть, “черный люд”, “чернорабочий”. “Черный люд” – это чернорабочие, или же группы людей, занятых не квалифицированным, тяжелым трудом. Башкирское “ҡара халыҡ” не относится к понятиям “этнос”, “национальность” |
Куштау Байрам. – Режим доступа: https://t.me/AlsynovBashkort/131 – (Дата обращения: 02.10.2024) |
|
15 |
Ҡара халыҡ |
«смуглые люди с Азии», «башкиры так называли определенные народы, которые были немножко смуглее такого среднего башкирского портрета» |
Хайбуллин И. Что происходит сегодня в г. Баймак? – Режим доступа: https://youtu.be/YN2_WZMhtxY?si=Af6eb0nawxG2yIh2 – (Дата обращения: 28.08.2024) |
|
16 |
Ҡара халыҡ |
ҡара малай «смуглый мальчик», ҡара тәнле «со смуглой кожей». Пример: Йәрминкә мәлендә ҡара тәнле бәләкәй малай өрөп тултырылған шарҙар һатыусыны ҡыҙыҡһынып күҙәтә икән. – На ярмарке мальчик со смуглой кожей с интересом наблюдал за продавцом воздушных шариков (из газеты). |
Вакилова Д. Т., Абдуллина Г. Р. Цветообозначения аҡ «белый» и ҡара «черный» в башкирской языковой картине мира // Вестник Башкирского университета. – 2022. – Т. 27. – №1. – С. 219 |
|
17 |
Ҡара халыҡ |
Правители приходят и уходят. Народ остается и продолжает свою жизнь на этой грешной земле. Но жизнь человека конечна, человек смертен — это, в принципе, добро, данное нам Богом-Аллахом. Надо бы нам всем, и власть имущим, и судьям и подсудимым, и богатым и бедным, а также простым, так сказать, «черным людям» прожить свои жизни так, чтоб пред кончиной своей было спокойно на душе, и чтоб дух наш не метался от угрызений совести своей, если она всё же имела место быть при жизни |
Бадретдинов В. О духе и свободе. – Режим доступа: https://vk.com/id110679892?w=wall110679892_1672%2Fall – (Дата обращения: 02.10.2024) |
|
18 |
Ҡара халыҡ |
дремучий, непросвещённый, необразованный, неквалифицированный, простой, грубый, тёмный, подсобный, безрадостный, тяжёлый, горестный, мрачный, земля, почва, глубинный, смуглый (о человеке) и т.д. Иногда наравне со словом «ҡара» употребляют конструкт «ваҡ халыҡ», в значении мелкий люд. |
Вахитов Т. (Шакиров И.) Понятие «ҡара халыҡ». – Режим доступа: https://vk.com/wall-205831811_6967?ysclid=lx1qung9xn582362673 – (Дата обращения: 28.08.2024)
|
[1] Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
В Википедии выложена ссылка на историческое определение, которым были обозначены (в пер. чернь, черный люд) общинники, ремесленники, мелкие торговцы, рабы-полонянники, податное население, ясачные люди XIII–XVI вв. [16].
Отчасти такого же мнения придерживались некоторые СМИ: «Чернь (историзм, от «черные люди») – люди из непривилегированных классов, простонародье, толпа, в поэтической речи – народ, лишённый высоких интересов. См. также охлократия, народ» [1].
Еще один источник пишет о том, что “ҡара халыҡ” на русском языке обозначает “черный люд”. В словарной статье “ҡара” “Толкового словаря современного башкирского литературного языка” под пунктом 4 приводится еще одно значение слова: “Относящийся к низшему слою, безграмотный, невежда” [2]. В данном случае примером служат слова “ҡара эшсе”, “ҡара халыҡ” –“чернорабочий”, “черный люд”. “Черный люд” – чернорабочие – группы людей, занятых тяжелым, не квалифицированным трудом. По мнению автора, “ҡара халыҡ” (на башкирском языке) не относится к понятиям “национальность”, “этнос” [21].
Необходимо оговориться, что, во-первых, в энциклопедии сами авторы допускают дальнейшее устаревание, архаизацию данного понимания словосочетания. Во-вторых, сомнительно широкое использование словосочетания «ҡара халыҡ» конкретно в отношении к башкирам-общинникам, которые могли называть себя не иначе, как «аҫаба халыҡ» или просто «аҫаба», и, в отличие от тех же татар, лоббировали в отношении себя именно данное определение, так как именно выражение «аҫабалыҡ» четко определяло их особый статус в общественной формации российского общества царского и имперского периодов истории не только как податного, но и служивого населения, ставшего с введением кантонно-административной системы в 1798 г. военным сословием, снабжающим армию иррегулярными военными подразделениями.
К началу XX столетия, после реформ Александра II и контрреформ Александра III, реформ эпохи Николая II, после постепенного формирования устойчивых капиталистических отношений и усугубления социального неравенства, обнищания подавляющего большинства башкир, урбанизации, роста производственных сил, промышленности и исчезновения общины, понятие «ҡара халыҡ» распространилось на большинство населения. Этому способствовала и возникшая политизация социума, когда завоевывавшие имидж политические партии стали усиленно акцентировать внимание на упомянутых проблемах. Соответственно, словосочетание прочно вошло в обиход разговорной речи и нашло отражение в художественных произведениях критического реализма, а впоследствии и социалистического реализма – художественных методов, направленных на всестороннее раскрытие социальных проблем (п. 9 в таблице 1).
В соцреализме отчетливо прослеживается использование дихотомии «свой-чужой». «Свои» – угнетенные, эксплуатируемые пласты населения. «Чужие» – эксплуатирующие слои, представители городской и сельской буржуазии. Закономерно, что у писателей реалистической школы акцентирование будет на резком обличении и негативной обрисовке представителей эксплуататорского класса. Поэтому слово «ҡара» широко используется и в прямом, и в переносном значениях в негативном ключе:
1) «Тағы ла бер һүҙ әйтһәң, мин һинең яҡты донъяла тап булып йөрөгән ҡара үләкһәңде туп-тура йәһәннәмгә оҙатам. Ғ. Ғүмәр» [2, с. 326];
2) «Ҡара янып, йәшерен генә тештәрен ҡыҫып, ишек төбөндә ҡарап торған Ҡарабаш бер урынға ла һайланманы. И. Насыри». [2, с. 339].
Обращает на себя внимание старинное слово «аламан», в эволюции которого мы видим, как самоназвание племени или группы племен или родов переходит впоследствии в сферу их деятельности, в том числе разбойничества, захватничества. Исход – на сегодняшний день в ряде тюркских языков оно несет негативный смысл, что маркировано тем же словосочетанием «ҡара халыҡ» (здесь в понимании «толпа», «разбойники») (п. 1 в таблице 1).
Если в советскую эпоху национальная парадигма занимала важные позиции, идеологически базируясь на принципе «дружбы народов», то в постсоветский период ситуация коренным образом изменилась. Идея моноэтничности, стремление национальной элиты захватить и легитимизировать власть, права на ресурсы стали определять отношение к национальному вопросу. Бывшие советские республики, приобретая самостоятельность, начали возрождать многое из реалий досоветского периода. Возникает явление массовой эмиграции; межэтнические конфликты становятся обыденностью во многих точках позднесоветского и постсоветского пространства. И отношение к гастарбайтерам из Средней Азии, Кавказа, которые раньше, возможно, в экономическом плане не оказывали значимого влияния на благосостояние автохтонного населения, начинает меняться.
Вслед за меняющимися социальными и национальными отношениями реформируются или деформируются языковые постулаты. Если раньше, в советскую эпоху, резко негативные высказывания по национальному, социальному, религиозному признаку рассматривались как явления вне морали, вне норм литературного языка, то сегодня языковая семантическая эволюция не ограничивается какими-либо рамками, догмами. А значит, в той или иной ситуации у различных слов могут возникнуть и возникают новые смысловые нагрузки.
Еще одним важным фактором смешивания разговорного, фольклорного, литературного пластов языка между собой, а также языковой диффузии и разного рода заимствований стала информационная эпоха, результатом которой является появление огромной текстовой массы в сети Интернет. В прежние эпохи монополия на догматирование, корреляцию или реформацию языковой системы была в руках у богословов, жрецов, а затем – у представителей прессы, литературы, культуры. Конечно, в XX в. пресса и литература, культура, а затем и телерадиокоммуникационные системы стали массовым явлением, ориентированным на сознание массового читателя или зрителя. Но при этом сохранялся этический, моральный кодекс, действовал государственный надзор. Сегодня же вследствие доступа ко всемирной паутине, а также под влиянием философских установок постмодернизма, трактующего всякое мнение как верное и имеющее право на выражение, коллективный субъект речи оказался свободен в самовыражении независимо от намерений, уровня развития и воспитания.
Следующий фактор – спровоцированная «парадом суверенитетов» реабилитация идей национализма на постсоветском пространстве. В эпоху СССР идеология национального самосознания зиждилась на принципе интернационализма как базиса Советского государства. С распадом СССР возник идеологический вакуум, было провозглашено возвращение к дореволюционному пониманию национального субъекта, что способствовало пропаганде идей национализма некоторыми социально-политическими течениями, в том числе религиозного характера вплоть до радикальной формулировки. Национальной радикализации способствовали воцарение законов «дикого капитализма», рост преступности в стране, заполнение рынка труда представителями Средней Азии и Кавказа. Кроме того, в 1990-е гг. сложилась тенденция к намеренному созданию негативного образа «советского прошлого» (или «совка») с целью дискредитации идей и интернационализма, и социального равенства. В результате быстро растущее социальное расслоение как бы получало историческое оправдание в общественном сознании, представлялось как естественная данность, а «дружба народов» начинала видеться как инструмент национального подавления.
Все это привело к тому, что дихотомия социального неравенства «свой-чужой» постепенно сменилась такой же дихотомией, но на основе национального (религиозного) противостояния, неравенства. Как считает О. В. Маруневич, в гражданском и национальном самосознании населения отражаются трансформация мировоззрения и межкультурных коммуникаций, декомпозиция социальной структуры общества, социально-политического фундамента государства: при социально-экономической нестабильности гражданское самосознание становится незрелым, обусловливая риски агрессии в межэтнических отношениях с различными формами конфликтов. При этом реакция психики человека оказывается подвержена сегрегации и возникновению этноцентризма, социальных стереотипов, предубеждений, на которых и базируется язык вражды [23, с. 61].
Так и выражение «ҡара халыҡ» «кочует» в языке, обретая как положительные, так и нейтральные или отрицательные нарративы, исходя из контекста использования. Имеются близкие по смыслу выражения в башкирском языке. Приведем в качестве примера слово «килмешәк» (в диалекте «килге», «килген», «килемтәк»). С одной стороны, у него нейтральный нарратив: «Түңгәүер ырыуына ҡараған бер башҡорт аймағының исеме. Название одного из родовых подразделений башкир-тунгаурцев».
С другой стороны, негативный – «пришелец», «пришлый»:
«Ситтән килгән, сит ырыу кешеһе, сит яҡ кеше, Пришелец, пришлый: Йәмилә Тирәкле кешеһе түгел, урман яғынан килен булып төшкән, шуға ла Хаммат уны «килмешәк» тип кәмһетеп маташа. Р. Солтангәрәев. Мифтахетдиндың ололарҙан ишетеп белеүенсә, олатаһы кеүек аҫаба башҡорттарҙан башҡа, Туҡһанбай ауылында ситтән күсеп килгән килмешәктәр ҙә бар. Я. Хамматов. Инә буре көсөгөнөң береһенең башына үҙе етте, ҡалған икәүһе ана шул килмешәктәр арҡаһында һәләк булды. Т. Ғарипова. • Китә белмәҫ килмешәк. Мәҡәл» (2, с. 457-458)
Лексема «килмешәк», значит, также носит негативную коннотацию и созвучна с выражениями «бесправный», «оборванец», «пришлый», «чужак» и др. Это проистекает как раз из исторической перспективы, когда чужой в жёсткой, компактной автохтонной патриархальной среде всегда воспринимался как лишний человек, с которым придется делиться пищей, семейным очагом, землей, имуществом. Исходя из амбивалентности позиции чужака, он привносит ту новизну, которая воспринимается как нечто странное в силу самой своей новизны, воодушевляя и тревожа одновременно. Социумом незнакомец воспринимается как потенциальная угроза традиционному укладу жизни, способная разрушить знакомое, близкое, перевернуть мироздание. Э. Тирикьян утверждает, что, с одной стороны, чужак, будучи крайне желаемым, в то же время становится крайне нежелательным [29]. Как отмечает американский социолог, чужак как образ в литературе – выразитель внешнего мира, появление которого на пороге ставит вопрос о выживании сообщества [31, c. 55]. Этнические чужаки, инородцы обладают, по народным поверьям, выраженными полудемоническими признаками, что проявляется в вере в силу «чужих» колдунов [6, с. 375].
Выражение «ҡара халыҡ» (как и выражения синономического порядка), если оно используются в отрицательном нарративе, необходимо отнести к «этнофолизмам» – к экспрессивным этнонимам, имеющим негативную коннотацию и выражающим презрительное отношение одного этноса к другому, базируясь на концепте «вражды» с основой на оппозицию «свой-чужой».
Этнофолизмы в большинстве случаев являются языковыми единицами, которые основаны на сходстве (метафоре) или смежности (метонимии) значений по внешнему признаку.
Осмысление того, что «они» – не «мы», вызывает острое желание отделиться от «чужого», продемонстрировать «их» чуждость. Б. В. Поршнев обращает внимание на тот факт, что даже в первобытном обществе «мы» мыслилось как люди, а «они» – как не совсем люди [20, c. 118].
По мнению Т. В. Тонтоевой, этнофолизмы формируются в процессе сравнения себя с «другим», что обычно заканчивается оценкой не в пользу «другого». Свое расценивается как «хорошее», чужое считается «плохим». Положительный мы-образ создается с помощью приписывания отрицательных качеств «чужим» этносам, при этом собственная этногруппа позиционируется с точки зрения позитивной социальной идентичности [30, с. 100].
Целью использования инвективных этнонимов является «хаотизация действительности», а неотъемлемой частью «театрализованной субстанциальности» – публичность. Вследствие взаимоотношений этнических большинства и меньшинств на базе осознования превосходства одних и недовольства других в русском, скажем, языке образуется ряд этнофолизмов, различных по своей эмоциональной окраске: «азеры», «чурки», «хачи», «абэвэгэдэйцы», «мамбеты», «хохлы», «хамары», «байбаки», «комики», «дирики» и т. д. [30].
Теперь перейдем непосредственно к речи актора Ф. А., озвученной им на сходе в деревне Ишмурзино Баймакского района Республики Башкортостан и содержавшей выражение «ҡара халыҡ». Блогер Х. И., разбирая эту речь, в своей версии перевода использует пейоративную номинацию, основанную на морфологических признаках – по цвету кожи, не отвергая того факта, что в башкирском языке имеется возможность обозначения представителей «южных народов» путем применения конструкта «ҡара халыҡ» [32].
Его вывод созвучен с мнением Д. Т. Вакиловой и Г. Р. Абдуллиной, которые предлагают аналогичное обозначение «ҡара халыҡ» по отношению к человеку [4]. По их выводам заметно, что исследователи хотя и преподнесли 17 значений слова «ҡара», изучив некоторые пласты текстового материала, но не до конца рассмотрели все вариации данного конструкта. Заметно, что у них такой масштабной цели и не предусматривалось.
Да, на выражение «ҡара халыҡ» у актора речи (то есть у Ф. А.) налагаются и нейтральные, смысловые пласты, но это не отменяет негативного оценочного звучания, обусловленного национальным фактором, происходящим из дихотомии, возникшей из-за взаимодействия различных национальностей в условиях острой рыночной конкуренции и при постоянной стрессовой ситуации в экономике, подогреваемой обострением земельно-имущественных отношений. Негативный оценочный фактор в отношении чужеземцев усиливается в речи актора тем, что он использует конструкт «ҡара халыҡ» в изложенном контексте с однородным этнонимическим рядом:
«Армяне уедут на свою Родину, “черный народ”* – к себе, русские – в свою Рязань, татары – в свой Татарстан».
При этом в высказывании актор речи не вводит фактор сомнения, предположения, возможности, нет – не оставляет представителям этноса вариативности. В оригинале его высказывание является твердым утверждением, долженствованием:
«Әрмәндәр ҡайталар үҙҙәренең иленә, «ҡара халыҡ»* үҙенең иленә, урыҫтар ана китә Рязангә, татарҙар – Татарстанға».
Выступающий, сознательно или нет, публично повторяет превратившееся с 1990-х годов в популярное клише высказывание-лозунг агрессивного, националистического характера: «Русские – в Рязань, татары – в Казань».
Дважды повторенная пресуппозиция «Мы не сможем переселиться!» – с последующей словесной тирадой: «У нас больше в стороне дома нет! Наш дом – тут! Мы Юку, Ишмурзино не сможем бросить, и переселиться в другую деревню! И там такой вопрос может возникнуть!» – не может нейтрализовать подачу отрицательной коннотации, являясь лишь попыткой ретушированного доведения основного смысла, высказанного ранее.
Поэтому и выражение «ҡара халыҡ» (дословно «черный народ») в речи Ф. А. – этнофолизм, то есть экзоэтноним с отрицательной коннотацией, относящийся к пейоративной лексике просторечия. Словосочетание «черный народ» (башк. «ҡара халыҡ») соответствует примерно семантике слов «хачи», «черномазые», «чурки», являясь обобщенным обозначением народов Средней Азии и Кавказа.
Необходимо добавить, что хотя тематика схода, где прозвучала речь, – проблема экологическая, проблема незаконного использования сырьевого потенциала республики, речь Ф. А. выходит за рамки этой тематики; она не столько акцентирует внимание на существующей экологической проблеме, сколько «раскачивает» стабильность сообщества путём доведения информации о том, что сам оратор и его единомышленники якобы несправедливо преследуются:
«На сегодняшний день нас тоже суд засудил. Мы сегодня тоже для сегодняшней власти – бандиты. За защиту своего народа и языка мы – бандиты. Нам сейчас нельзя проводить мероприятия, хотят закрыть. Все время закрывают (в тюрьму), штрафуют. Если так наших активистов… Вот сидит Ильдар агай, так ведь. Из-за того, что ведет в своем районе борьбу, что с ним стало, знаете? Ноги сломали, избили средь бела дня! За свои взгляды, за то, что был за свой народ, за свою землю».
При этом на современные реалии выдергиваются и негативно проецируются исторические параллели:
«Наши земли в течение веков, наш народ угнетали. Салават Юлаев, Карасакал, Алдар Исякаев – баймакский батыр. Вывели и повесили – за спину, за ребра, казнили! Потом Салавата Юлаева, выведя перед народом, исполосовали кнутом! За что?! За то, что на его землях строили заводы, он вышел против этого. Он тоже в свое время был экстремистом, он тоже был бандитом».
Автор этого высказывания занимается подтасовкой исторических фактов. Например, «Алдар батыр» не мог быть «баймакским батыром», поскольку в XVIII ст. не было Баймакского района, а упомянутый Алдар Исякаев был старшиной обширной Бурзянской волости. При этом актор речи навязывает «обратную», «перевернутую» репутацию исторической личности: «Салават Юлаев – экстремист, бандит». В XVIII в., при жизни Салавата Юлаева, как известно, он действительно был признан официальными властями «злодеем, бунтовщиком, изменником», однако уже со второй половины XIX в. его личность начала преподноситься в позитивном ключе и поэтизироваться, и в современной Российской Федерации он является национальным героем одного из базовых народов, населяющих страну, – башкир, необходимым идеологическим звеном в сохранении единения большого многонационального государства. Еще одна деталь упускается при таком передергивании исторических фактов: Салават Юлаев, будучи тарханом – дворянином, не выступал за отделение башкирских волостей, а присягнул в лице самозванца Пугачева «императору Петру III» и государству, ратуя за прекращение узурпации власти и возвращение подданнических отношений в рамках договоренностей с царём Иоанном Грозным – и не более того.
Таким образом выступающий позволяет себе субъективный исторический ревизионизмом. То есть идёт на намеренное и, кажется, неоправданное преувеличение собственной значимости путем сравнения себя и своих деяний с намного более масштабными историческими деятелями, доказавшими свое величие высоким уровнем образованности, боевых и организаторских способностей, умением мыслить стратегически и владением тактическим мастерством, с людьми, оставившими реальный след в отечественной истории. Актор речи, искажая репутацию исторических лиц, использует этот прием для собственного обеления, но вместе с тем наносит ущерб устоявшимся героическим образам в башкирском культурном коде:
«Мы сегодня тоже для сегодняшней власти – бандиты. За защиту своего народа и языка мы – бандиты. Он тоже [Салават Юлаев] в свое время был экстремистом, он тоже был бандитом».
Идет резкое противопоставление, построенное на дихотомии «свой-чужой»: «свой» – народ, «чужой» – власть. Смакование выражений «повесили – за спину, за ребра, казнили!», «исполосовали кнутом» в отношении башкирских исторических деятелей XVIII в. осуществляется параллельно с уточнением нанесенных некоему «Ильдару агаю» увечий: «ноги сломали, избили средь бела дня». Такие параллели и обширные эмоциональные отступления добавляют нарратив агрессивной публицистичности и вряд ли нацелены на решение конкретных земельных вопросов мирным путём.
Исходя из проанализированного выступления Ф. А., эту речь можно отнести к разряду феноменов антиповедения – формы сознательного и намеренного отхода от всеми принятой или предписываемой (рекомендуемой властными идеологическими кругами) нормы поведения, которая содержит (в меньшей или большей степени) интенцию на дестабилизацию сложившегося культурно-социального порядка, в максимальном значении – на ликвидацию всей его структуры, системы норм. Антиповедение – публичное, резонансное явление, рассчитанное на внешнюю реакцию. Это суть его ролевой (театрализованной) субстанциальности. Будучи связанным с публичностью, оно имеет сверхзнаковую природу, которая требует дополнительные усилия дешифровки [33, с. 99].
ВЫВОДЫ
Таким образом конструкт «ҡара халыҡ» имеет много значений. В процессе исторического развития он видоизменялся, эволюционировал, имеет много вариаций. В условиях обострения межнациональных отношений выражение «ҡара халыҡ» приобрело дополнительное значение, выражающее негативное отношение к иному этносу. То есть при условии использования этого выражения в определенном контексте и с определенной целью оно должно быть отнесено к «этнофолизмам» –экспрессивным этнонимам, имеющим негативную коннотацию и выражающим презрительное отношение одного этноса к другому, базируясь на концепте «вражды» с основой на оппозицию «свой-чужой».
В пропагандистской речи Ф. А. на сходе в деревне Ишмурзино Баймакского района Республики Башкортостан выражение «ҡара халыҡ» является этнофолизмом и синононимично значению слов «хачи», «чурки» «черномазые», являясь общим пренебрежительным обозначением народов Кавказа и Средней Азии. При этом сам актор речи Ф. А. в большей степени сосредоточен на интересах собственного «Я», нежели на решении основной проблемы – экологической, ради которой был собран сход. В собственных целях, которые никак не касаются земельных вопросов, выступающий «переписывет» факты национальной истории, искажает биографии исторических деятелей, добиваясь таким образом эмоционального эффекта, необходимого ему для удовлетворения личных интересов.
References
- Abdulova A. «Ne tak slovo perevoditsja»: zhiteli Bashkirii vozmushheny donosom Habirova na Alsynova[1] [«This is not how the word is translated»: residents of Bashkiria are outraged by Khabirov’s denunciation of Alsynov]. Prufy: svobodaja mediaplatforma. Available from: https://prufy.ru/news/society/144383-ne_tak_slovo_perevoditsya_zhiteli_bashkirii_vozmushcheny_ donosom_khabirova_na_alsynova/ (accessed 28 August 2024).
- Akademicheskij slovar’ bashkirskogo jazyka [Academic Dictionary of the Bashkir Language]. Ed. by F. G. Hisametdinova. Ufa, Kitap, 2012, Vol. 4, 944 p.
- Akademicheskij slovar’ bashkirskogo jazyka [Academic Dictionary of the Bashkir Language]. Ed. by F. G. Hisametdinova. Ufa, Kitap, 2013, Vol. 5, 888 p.
- Vakilova D. T., Abdullina G. R. Cvetooboznachenija ak «belyj» i kara «chernyj» v bashkirskoj jazykovoj kartine mira [Color designations «white» and «black» in the Bashkir language picture of the world]. Vestnik Bashkirskogo universiteta, 2022, Vol. 27, no. 1, pp. 217–222.
- Vahitov T. (Shakirov I.) Ponjatie «kara halyk« [The concept of «kara halyk»]. Available from: https://vk.com/wall-205831811_6967?ysclid=lx1qung9xn582362673 (accessed 28 august 2024).
- Vinogradova L. N. Neprostye ljudi v sel’skom soobshhestve: o ljudjah, nadelennyh sverh#estestvennymi sposobnostjami. Chast’ 1: nevol’nye vrediteli, besnovatye, chuzhaki [Difficult people in a rural community: about people endowed with supernatural abilities. Part 1: unwitting pests, possessed, outsiders]. Slavjanskij al‘manah, 2017, no. 3-4, pp. 367–379.
- Galjautdinov I. G. Istorija bashkirskogo literaturnogo jazyka: istochniki i metody issledovanija [History of the Bashkir literary language: sources and research methods]. Problemy vostokovedenija, 2009, no. 3(45), pp. 81–
- Grachev M. A. Russkoe argo [Russian argo]. Nizhny Novgorod, NGLU Publ., 1997. 245 p.
- Grachev M. A. Ot Van’ki Kaina do mafii: proshloe i nastojashhee ugolov. Zhargona [From Wanka Cain to the Mafia: Past and Present of Criminal Jargon]. Saint-Petersburg, Avalon: Azbuka-klassika Publ., 2005. 380 p.
- Grachev M. A. Slovar’ sovremennogo molodjozhnogo zhargona: bolee 6000 zhargonizmov [Dictionary of Modern Youth Jargon: Over 6,000 Jargons]. Moscow, Eksmo Publ., 2006. 666 p.
- Grachev M. A. Slovar’ tysjacheletnego russkogo argo: 27000 slov i vyrazhenij [Dictionary of millennial Russian argo: 27,000 words and expressions]. Moscow, RIPOL classic Publ., 2003. 1119
- Davletshin G. Literaturnyj jazyk i ego funkcionirovanie [Literary language and its functioning]. Belem, 1927, no. 9-10, pp. 65–68.
- Davletshin G. Govory v bashkirskom jazyke [Dialects in the Bashkir language]. Bashkort aimagi, 1928, no. 6, pp. 76–85.
- Dmitriev N. K. Grammatika bashkirskogo jazyka [Grammar of the Bashkir language]. Moscow, Leningrad, Akademija nauk SSSR Publ., 1948. 276 p.
- Ishbulatov N. H. Sovremennyj bashkirskij jazyk. Sistema norm literaturnogo jazyka [Modern Bashkir language. System of norms of literary language]. Ufa, Bashknigoizdat Publ., 1972. 144 p.
- Kara halyk [Kara halyk]. Onlajn — jenciklopedija Tatarica. Avialable from: https://tatarica.org/ru/razdely/istoriya/srednie-veka/kara-halyk (accessed 28 august 2024)
- Kiekbaev Dzh. G. Leksika i frazeologija sovremennogo bashkirskogo jazyka: ucheb. posob [Vocabulary and phraseology of the modern Bashkir language: study. manual]. Ufa, Bashkirskoe knizhnoe izd-vo, 1966. 276 p.
- Kiekbaev Dzh. G. Vvedenie v uralo-altajskoe jazykoznanie [Introduction to Ural-Altai linguistics]. Ufa, Bashkirskoe knizhnoe izd-vo Publ, 1972. 152 p.
- Kiekbaev Dzh. G. Osnovy istoricheskoj grammatiki uralo-altajskih jazykov [Fundamentals of the historical grammar of the Ural-Altai languages]. Ufa, Kitap, 1996. 368 p.
- Komarova V. V., Os’mak N. A. Jetnofolizm kak jelement jazyka vrazhdy [Ethnofolism as an element of hate speech]. Vestnik MGLU, Gumanitarnye nauki, 2020, vol. 5 (834), pp. 117–127
- Kushtau Bajram [Kushtau Bayram]. Avialable from: https://t.me/AlsynovBashkort/131 (accessed 02 October 2024).
- Mansurov A. A. Grammatika bashkirskogo jazyka [Grammar of the Bashkir language]. Ufa, BGU Publ., 1979.
- Marunevich O. V. K voprosu o pragmatike invektivnyh jetnonimov v sovremennom politicheskom diskurse Rossii i SShA [On the question of the pragmatics of invective ethnonyms in the modern political discourse of Russia and the USA]. Na peresechenii jazykov i kul’tur. Aktual’nye voprosy gumanitarnogo znanija, 2021, no. 2 (20), pp. 59–63.
- Ozhegov S. I. Slovar’ russkogo jazyka. Pervoe izdanie [Dictionary of the Russian language. First edition]. Moscow, OGIZ-GIS Publ., 1949. 968 p.
- Raemguzhina Z. M. Bashkirskij antroponimikon v svete jazykovoj kartiny mira (aspekty formirovanija i osobennosti funkcionirovanija): Avtoref diss. na soiskanie uchenoj stepeni dokt. filol. nauk [Bashkir anthroponymicon in the light of the language picture of the world (aspects of formation and features of functioning). Abstract of thesis]. Ufa, RIC BashGU Publ., 2009. 48 p.
- Salamatin D. Est’ dva nesootvetstvija. Specialist rasskazala, chto ne tak v jekspertize Huzhahmetova po «kara halyk» [There are two inconsistencies. The specialist told what is wrong in Khuzhakhmetov’s examination of «kara khalyk»]. Prufy: svobodnaja mediaplatforma. Available from: https://prufy.ru/news/society/146588-est_dva_nesootvetstviya_spetsialist_rasskazala_ chto_ne_tak_v_ekspertize_khuzhakhmetova_po_ara_khaly_/ (accessed 28 August 2024).
- Tagirov N. T. Bashҡort halҡynyң bajlyғyn beleү, tarih, geografijaһyna kәrәkle uҙyҡtaryn jyjnau, ҡomartҡylaryn sүplәp tabyu һәm tuplau өsөn ҡullanma (Rukovodstvo dlja sbora staryh proizvedenij) [Manual for collecting old works]. Sterlitamak, 1922. 40 p.
- Tagirov N. T. Bashҡortsa jesh jөrөtөү өsөn ҡullanma һәm үrnәktәr (Rukovodstvo i primery dlja vedenija na bashkirskom jazyke kanceljarskih rabot) [Manual and examples for conducting clerical work in Bashkir]. Ufa, 1924.
- Tiryakian, E. A. Sociological Perspectives on the Stranger. Soundings: An Interdisciplinary Journal, 1973, v 56, no. 1, pp. 45–58. Avialable from: www.jstor.org/stable/41177870 (accessed 28 august 2024).
- Tontoeva T. V. Jetnofolizmy kak indikatory dinamiki jetnicheskoj identichnosti [Ethnofolisms as indicators of ethnic identity dynamics]. Juvenis scientia, 2016, no. 2, pp. 97–
- Fahretdinova L. M. Koncepcija chuzhaka v sociologicheskoj tradicii [The concept of a stranger in the sociological tradition]. Primo Aspectu, 2020, 1 (41), pp. 49–56.
- Hajbullin I. Chto proishodit segodnja v g. Bajmak? [What is happening today in the city of Baymak?]. Avialable from: https://youtu.be/YN2_WZMhtxY?si=Af6eb0nawxG2yIh2 (accessed 28 august 2024).
- Jurkov S. E. «Antipovedenie»: opyt sinergeticheskoj interpretacii [«Anti-behavior»: experience of synergistic interpretation]. Izvestija Tul’skogo gosudarstvennogo universiteta: gumanitarnye nauki, 2014, no. 2, pp. 92–100.
[1] Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.